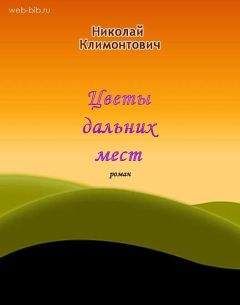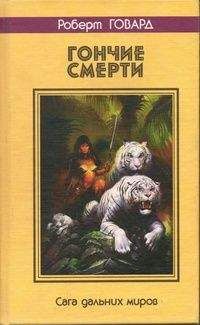Имран Касумов - На дальних берегах
- Я спрашиваю не у тебя, я спрашиваю у него.
- Он не ответит на ваш вопрос, господин офицер.
Офицер извлек пистолет из кобуры:
- Пусть попробует.
Сергей Николаевич молча смотрел на офицера, будто не понимая, что от него требуют, а Дюэз, махнув рукой, беспечно улыбнулся, будто ему было все равно, убьют его товарища или нет.
- Я его знаю с малых лет. Он еще в жизни ни одного слова не произнес. Он родился глухонемым. Зато сети тянет лучше нас всех...
Офицер снова обернулся к итальянцу:
- Может быть, теперь ты скажешь, что этот паршивец не глухонемой?
- Я молчу, - поспешно сказал тот.
- Тогда я могу поспорить, что он умеет великолепно говорить... Он сейчас расскажет нам, откуда идет, куда торопится и что он намерен делать в Триесте.
Приближалось тяжелое испытание. От недавнего удара прикладом в ушах Сергея Николаевича стоял гул. Он не знал, положить ли свою ношу на землю, или продолжать держать ее на спине... Эсесовцы с любопытством смотрели на своего офицера, который вплотную приблизился к рыбаку и прицелился ему в лоб.
- Буду считать до трех, - сказал он, - если не ответишь, отправишься на тот свет глухонемым. Понял?
Но рыбак, видимо, ничего не понял. Он молчал, беспокойно оглядываясь на своего спутника, видя, что ему угрожают смертью.
- Раз, - сказал офицер.
Сергей Николаевич смотрел прямо в дуло наведенного на него пистолета.
- Два!..
"Эх, Сергей, - мелькнуло у полковника, - не в свое дело ты полез..." В ушах гудело сильнее. Он ясно видел, как палец с покрытым лаком ногтем лег на курок, курок подавался туго...
- Он же глухонемой, господин офицер, - снова пробормотал Дюэз, - он с рождения ни одного слова не сказал... вот сети он тянет лучше всех...
- Три!..
Раздался выстрел. Дюэз подпрыгнул на месте, вызвав общий смех нацистов. А Сергей Николаевич, не дрогнув, продолжал стоять на месте, словно прирос к земле.
Выстрел был провокационный - стрелял в воздух стоявший слева эсесовец. И сколько напряжения, какая неимоверная собранность потребовалась Сергею Николаевичу для того, чтобы не услышать этого выстрела. Откровенно говоря, он был готов к худшему. Мог ведь выстрелить и сам офицер. А ему надо было только молчать. Молчать и этим спасти себя и своего товарища Дюэза, которому за эти несколько секунд тоже пришлось пережить такое, что он разразился удушливым кашлем и отхаркнулся кровью. Потом все пошло легче. Гитлеровцы перебрали рыбу в корзине, часть ее высыпали в кузов грузовика и отпустили их. До базара дошли спокойно.
Дюэз вдруг оказался неплохим торговцем: он зазывал покупателей, ломил цену, божился, ругался. Сергей Николаевич вначале с любопытством смотрел на безделушки, которые продавали вокруг местные умельцы, на пробки, превращенные в забавные фигурки, на деревянных козлов, обезьян и слонов, на тряпье, которое вынесли хозяйки для обмена на продукты. Потом он и сам включился в торговлю: сел на землю за стойкой, положил рядом корзину. К нему подходили почему-то все неторопливые покупателя - садились рядом, долго торговались, перебирали усачей. Сергей Николаевич был тих, терпелив, лишь изредка незаметно вставлял фразу, другую. Долго торчал у корзины старенький, сморщенный священник. Еще дольше сидел молодой парень, видимо, рабочий. Корзина опустела. Можно было двигаться обратно. Нести пустую корзину было легче, но на душе Сергея Николаевича было по-прежнему тяжело.
Они возвращались по тем же улицам, по которым шли сюда. Снова впереди ковылял Дюэз, а за ним понуро шел его спутник.
В одном месте к ним опять прицепились гитлеровцы, но, видимо, они куда-то торопились, а поэтому только обшарили корзину и побежали дальше.
"Да, нелегко бывает Мехти каждый раз, когда он появляется в Триесте... Трудно, очень трудно... и Мехти, и Васе, и бедной Анжелике..." Теперь Сергей Николаевич понимал это особенно хорошо.
С явками и связью удалось все наладить, но сведения о Мехти и Анжелике были далеко не утешительными. Анжелика находилась в гестапо, ее пытали. Гитлеровцы написали в газете, будто она призналась в причастности к партизанам, дала много ценных сведений. Когда Сергей Николаевич услышал это, он невольно улыбнулся. Анжелике он верил так же крепко, как верил себе... Жаль, очень жаль эту смелую, прекрасную девушку, которой, очевидно, предстоит умереть под страшными пытками гитлеровцев... Что касается Мехти, то о нем в Триесте никаких сведений не было. Полковнику удалось выяснить лишь, что Мехти в Триесте нет, и никто не знал, где он находится.
Добравшись к себе, полковник и Дюэз рассказали партизанам о Мехти и Анжелике.
- Бедное дитя! - нахмурил густые брови крепыш-болгарин и снял свою измятую шапку.
- Что вы снимаете шапку? - возмутился Сильвио. - Она еще жива!
- Ее пытают... - с трудом выговорил Дюэз. Он помолчал, а потом решительно сказал: - Но гестаповцы ничего не смогут добиться от нее!..
Ферреро побледнел, и ему стоило огромных усилий сохранить самообладание. Когда Вася сказал ему, что Анжелика попалась, он попытался успокоить себя тем, что Вася в бреду многое путает и что на самом деле все иначе. Но сообщение товарища П. подтвердило слова Васи, и Ферреро с горечью понял, что они потеряли одного из самых юных и лучших товарищей - Анжелику, на которую он возлагал столько надежд в будущем.
Она схвачена, и, вероятно, ее убьют...
А что с Михайло? Загадку с его таинственным исчезновением предстояло еще разгадать. И Ферреро продолжал бы поиски Михайло, если бы чрезвычайные обстоятельства не заставили его изменить свои планы.
Немцы действовали все активнее, занимали новые села и из себя выходили, требуя от сельчан, чтобы те указали, где находится партизанская бригада.
Ферреро надо было немедленно возвращаться в штаб. Мрачные, подавленные шли партизаны назад.
Кругом ликовала весна; молодая листва светлела среди темно-зеленой хвои сосен; между желтыми каменными утесами зеленела трава. В воздухе носились пестрые бабочки, поднимались в небо стаи птиц, встревоженных появлением людей. Было тепло; солнечный свет сеялся сквозь листья деревьев, вырисовывая на скалах затейливые узоры.
Но ни Ферреро, ни его люди не замечали ничего вокруг. Мысли каждого были заняты одним; жив ли Михайло?
* * *
"Жив ли Мехти?" Этот же вопрос в тысячный раз задавала себе и старая женщина, которую Мехти называл биби.
Биби лет семьдесят; лицо у нее темное, испещренное морщинами. Если бы не тревога за Мехти, морщин было бы меньше. Лишь осанка оставалась по-прежнему гордой; горе не согнуло ее.
Вот уже два года, как она не получала от Мехти писем. Старуха обивала пороги военкоматов, просила сделать новые запросы и получала все один и тот же ответ: "Пропал без вести".