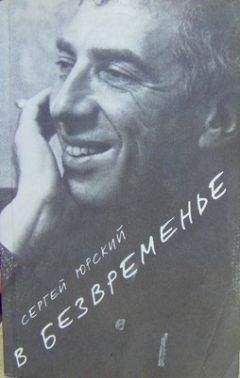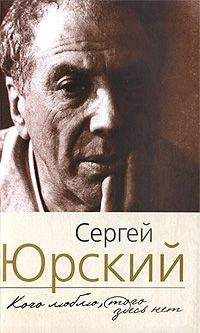Сергей Юрский - Игра в жизнь
Он рано стал заметным и очень рано стал признанным — еще в родном Тбилиси, еще в Москве в Центральном Детском театре и уж определенно в Театре Ленинского комсомола в Ленинграде. В БДТ, куда он пришел в 1956 году, он стал великим. И величие шло ему. Когда в конце рядового, не премьерного спектакля публика пять, шесть, семь раз вызывала артистов. А потом в левой ложе, наверху, появлялся Товстоногов. И весь зал поворачивался и, подняв руки, аплодировал ему, а он коротко кланялся и улыбался, это было великолепно. И величественно. И трогательно. Вот тут-то и стали все недостатки его внешности оборачиваться достоинствами, и Георгий Александрович становился по-настоящему красивым.
Не для всех! Это важно заметить! Он был крупным художественным авторитетом, властью, но его внешность, манера речи, его склад мыслей, его культура абсолютно не соответствовали принятому среди властей стандарту. «Своим» для них он никогда не был. Но он был признанным лидером театрального Ленинграда, и с этим приходилось считаться. Приходилось терпеть в своих сферах его, столь на них непохожего. Люди искусства и зрители признали его первенство. Какое-то время был еще баланс между старшим «классическим эстетом и формалистом» Николаем Павловичем Акимовым и новым «классиком и фантазером» Товстоноговым. Но после смерти Николая Павловича молчаливо, но единогласно Товстоногов был избран единственным. И долгие годы на этот Олимп входа никому не было.
По местоположению БДТ имени Горького считался неудобным театром. От Невского, от станции метро 10—15 минут хода. Рядом с театром ни троллейбуса, ни автобуса — ничего. Этим объяснялось, что публика в БДТ ходит мало, а к середине 50-х совсем стало пусто. С приходом Гоги вдруг выяснилось, что дело не в транспорте. Народ в БДТ пошел. Потом побежал. А потом встал в длинные очереди предварительной продажи билетов.
Причина? Можно ответить просто: были спектакли плохие, стали спектакли хорошие. Но так ли это? Я свидетельствую — БДТ и раньше был прекрасным театром. Я постоянный его зритель с 1949 года (с нашего переезда в Ленинград). Театр этот я обожал, и таких, как я, было немало. И артисты были те же: очень хороши и любимы были великолепные О. Г. Казико, А. И. Лариков, В. Я. Софронов, В. П. Полицеймако, М. В. Иванов, молодые — Нина Ольхина, Владислав Стржельчик, Ефим Копелян, Мария Призван-Соколова, Людмила Макарова, Борис Рыжухин. И режиссура в годы была в театре несомненно серьезная. Какие имена! Б. А. Бабочкин, Н. П. Хохлов, Н. С. Рашевская. Были и спектакли знаменитые — «Девушка с кувшином», «Дачники», «Егор Булычев», «Достигаев и другие», «Гости», «Обрыв», «Метелица». Народ сперва шел, потом меньше шел. Потом совсем перестал идти. Помню, смотрел я «Метелицу» Веры Пановой в отличной постановке Сулимова с ярко играющими актерами. В зале, дай бог, одна пятая мест занята.
И вот пришел Товстоногов. Быстро и весело выпустил «Шестой этаж» — французская комедия, «Когда цветет акация» — советская комедия (режиссура Товстоногова и И. Владимирова). Блеснули и покорили новые артисты — Зина Шарко и Кирилл Лавров, но все остальные-то были прежние. И вдруг тесно заполнились даже неудобные места верхнего балкона под бесконечно высоким потолком БДТ. Так начиналось.
А потом был громовой удар — «Лиса и виноград» Г. Фигейредо с Полицеймако, Ольхиной, Корном. Город дрогнул. Такой пьесы, таких смелых аллюзий, такой театральной формы еще не видывали. Все изменилось в театре. На сцене стало очень светло. В буквальном смысле слова. Сменили аппаратуру, и это оказалось очень важным. Еще важнее — натуральные декорации были заменены условными, и пространство задышало. И важнее всего — театр с либеральных позиций заговорил о сегодняшнем дне. А на дворе был 56-й год, и люди жаждали этого разговора. Такой театр в идеологически замороженном Ленинграде появился идеально вовремя.
И тогда Товстоногов стал собирать свою труппу. Отбор шел строгий — кто из прежних остается в деле, а кто отходит на безнадежно второй план. И кто будет приглашен в труппу со стороны — из других театров, из других городов, из начинающих молодых.
Среди отобранных был и я. Я был принят в труппу БДТ 17 июля 1957 года, будучи студентом третьего курса Театрального института.
3Отец умер восьмого. Умер в Комарове, в Доме отдыха ВТО. Внезапно.
Самочувствие его в последний год было скверное. Но он работал. Участвовал (я уже говорил об этом) в подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Было это всего за месяц до катастрофы Вернулся в Питер. К докторам не пошел. Устал от докторов. Вместе с мамой и со мной поехал в Дом отдыха. И вдруг...
10 июля с отцом прощались. Толпой стояли эстрадники, много артистов цирка, актеры театров, где он работал, — Театра Комиссаржевской, Театра комедии. Был венок и от БДТ. Юрия Сергеевича знал весь театральный Ленинград. И он знал всех. Естественно, был он знаком и с Товстоноговым.
Появление Товстоногова в городе было событием будоражащим. Его спектакли в Театре Ленинского комсомола гремели. Публика брала штурмом огромный неуютный зал. Партийное начальство никак не могло решить, куда, зачислить такого яркою худрука — в «продолжатели лучших традиций революционного театра» или в «формалисты, тяготеющие к чуждым влияниям Запада». С одной стороны, пьеса о Юлиусе Фучике, герое-коммунисте, — это хорошо. И спектакль «Дорогой бессмертия» можно бы и хвалить... Но с другой стороны... эта странная декорация с какой-то диафрагмой, непривычное деление действия на короткие эпизоды, «наплывы», и не поймешь, это он в данный момент говорит или вспоминает... И уж нет ли тут отхода от реализма? Товстоногова то хвалили, го поругивали, то прямо-таки хватали за горло.
Для Юрия Сергеевича Юрского, исполнявшего в те годы должность заведующего театральным отделом Управления культуры Ленинграда, Товстоногов был человеком иного поколения (отец был старше его на тринадцать лет) и несколько иных эстетических позиций. Юрского настораживали повышенная экспрессия и бьющая через край режиссерская изобретательность, смущало обилие технических новинок, заслонявших иногда актера. (Отчасти так это и было — только позднее, уже в БДТ Гeopгий Александрович обрел великолепную классическую умеренность в распределении сил.) При этом отец всегда говорил (цитирую домашние вечерние разговоры с мамой в моем присутствии): «Но талант... талант какой-то... неостановимый! »
В один из грудных моментов жизни Гeopгий Александрович пришел в кабинет отца на площади Искусств. Поговорили. Содержания разговора я не знаю, но знаю финал встречи. Отец на официальном бланке управления написал записку и попросил свою секретаршу поставить печать. Текст был такой: