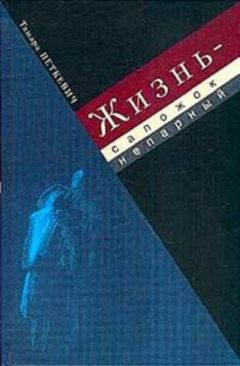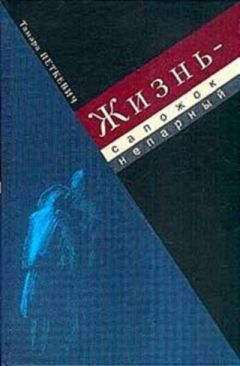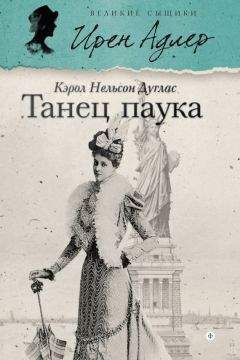Тамара Карсавина - Театральная улица
После первой совместной работы между мной и Дягилевым установилась творческая связь. Для осуществления своих замыслов ему нужны были молодые восприимчивые личности, из которых можно было лепить, словно из мягкой глины, придавая необходимую форму. Он нуждался но мне, а я безоговорочно верила в него. Он помог мне расширить горизонты моего художественного восприятия; он образовывал и формировал мои вкусы без каких-либо нарочитых философских рассуждений и проповедей. Несколько небрежно брошенных им слов как бы выхватывали из тьмы ясную концепцию, образ, который предстояло создать. Часто я с грустью размышляла о том, как много он мог бы мне дать, если бы потрудился систематически заниматься моим образованием. Хотя, кто знает, возможно, мне были нужны именно такие несистематические уроки. Доводы и логические заключения никогда не помогали мне. Чем больше я рассуждала, тем бледнее выглядел образ, на котором я пыталась сосредоточиться. Мое воображение разыгрывалось только после того, когда в действие вступала какая-то скрытая пружина. У меня был весьма скромный багаж личного опыта. Мне не довелось испытать тех эмоций, которые должны были воплотить трагизм, присущий большинству моих ролей. С помощью сверхъестественной интуиции Дягилев умел привести в действие скрытые пружины, от которых у меня пока еще не было ключа. По дороге из партера, откуда он наблюдал за репетицией, Дягилев остановился, чтобы сказать несколько слов по поводу моей интерпретации роли Эхо.
– Не прыгайте, как легкомысленная нимфа. Я вижу скорее изваяние, трагическую маску, Ниобею.
Он бросил реплику и отправился своей дорогой. А перед моим мысленным взором тяжелая метрическая структура трагического имени обратилась в печальную поступь не знающего покоя Эхо.
А Тамара, от которой я в отчаянии чуть не отказалась! У меня первоначально сложилась ошибочная концепция роли, и мастер специально пришел, чтобы поговорить об этой роли.
«Немногословие – сущность искусства». И еще «Мертвенно бледное лицо, сдвинутые в одну линию брови». Больше ничего, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы пустить в действие пружину и заставить меня увидеть Тамару во плоти.
Я вернулась из Лондона, подписав с «Колизеем» контракт на гастроли будущей весной. Когда Дягилев узнал об этом, он был чрезвычайно раздосадован. Его парижский сезон начинался вскоре после начала моих гастролей в Лондоне, а он не мог обойтись без меня даже короткое время. Посыпались взаимные обвинения: он упрекал меня за то, что я не сохранила свою свободу; я возражала, что ему следовало предупредить меня о своих планах. Мы оба очень расстроились. Я охотно пожертвовала бы всеми материальными выгодами лондонского контракта, лишь бы не лишиться парижского сезона, но была связана подписью. В контракте Дягилева с Оперой мое участие оговаривалось в качестве особого условия; и если бы он даже захотел этого, он не смог бы провести сезон без меня. Во имя общего дела мы оставили взаимные упреки и стали вместе думать о том, как выбраться из затруднительного положения. Я засыпала Маринелли отчаянными телеграммами, но всегда приходил один и тот же ответ – не может быть и речи об изменении даты гастролей в «Колизее», контракт должен быть выполнен. В те дни я испытывала огромное напряжение. Я была занята в значительной части репертуара Мариинского театра, разучивала новые партии к весне, и буквально подвергалась пыткам со стороны Дягилева. Я стала бояться телефонных звонков – сопротивляться настойчивости Дягилева было нелегко. Он подавлял своего оппонента не логикой аргументов, а давлением своей воли и невероятным упорством. Ему казалось вполне естественным, чтобы все содействовали его продвижению вперед, и он надеялся убедить меня нарушить контракт. Его щупальца все крепче и крепче сжимались вокруг меня – настоящая моральная инквизиция! Дягилев постоянно приглашал меня прийти к нему вечером, посмотреть, как работает художественный совет, и «поговорить о делах». И хотя мне очень хотелось подышать атмосферой предстоящего нового сезона, я понимала, что мой визит превратится для меня в подлинное «хождение по мукам».
В небольшой квартире Дягилева бил пульс грандиозного замысла: стратегия наступления и отступления, планы и бюджеты, музыкальные вопросы – в одном углу, жаркие дебаты – в другом. И министерство внутренних дел, и маленький Парнас – все это на ограниченном пространстве двух комнат. Все постановки первоначально обсуждались именно здесь. Вокруг стола сидели «мудрецы», члены художественного совета, и обдумывали дерзкие идеи. Те дни ушли безвозвратно. Невообразима мальчишеская безудержность этих пионеров русского искусства. Какой бы опыт мы ни обрели в последующие годы, ничто уже не может вернуть назад тот прежний энтузиазм.
Все артистические силы, находившиеся в распоряжении Дягилева, проявляли горячее рвение. Ареопаг возглавлял Бенуа, у которого вдохновение сочеталось с ясностью мысли, мудрость – с практической сметкой. Он был преисполнен доброжелательности и обладал уникальной эрудицией. Его мастерство слияния фантастического и реального тем более изумляло, что он достигал магического эффекта самыми простыми средствами. При обсуждении «Жар-птицы» членов художественного совета особенно волновал вопрос, как изобразить всадников, символизирующих День и Ночь.
– Невозможно допустить, чтобы лошади гарцевали на сцене и разнесли декорации на куски. Эффект будет карикатурным – давайте сфабрикуем.
– Нет, – сказал Бенуа, – пусть всадник медленно проедет вдоль просцениума. Символ будет очевиден, если его не слишком подчеркивать.
В конце концов сделали так, как предлагал Бенуа, и это был волнующий момент. Совсем иной Бакст, любитель всего экзотического и фантастического, кидался из одной крайности в другую. Пряный и жестокий Восток и безмятежная равнодушная античность в равной мере пленяли его.
Рерих – сама загадочность; слегка заикающийся пророк, он мог сделать гораздо больше, чем обещал. Когда к нам присоединился Добужинский, он внес в работу элемент веселого озорства. Это был замечательный мастер декорации, великий романтик, застенчивый, наивный и простой.
Пока они сидели в одной комнате, в другой Стравинский с Фокиным работали над партитурой, и каждый раз, как у них возникали споры по поводу темпа, они обращались к Дягилеву. Однажды я видела японского артиста, демонстрировавшего умение сосредоточиться на четырех предметах сразу, на меня он не произвел впечатления, ведь я видела Дягилева за работой – все возникавшие проблемы он разрешал быстро и решительно. Ему в высшей мере было присуще чувство театральности. Как бы ни был Дягилев поглощен своими делами, он не выпускал из виду своих единомышленников.