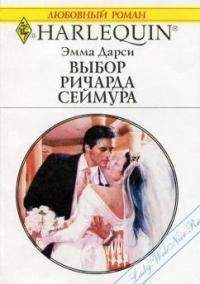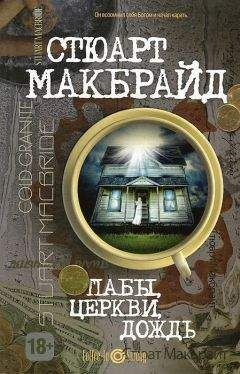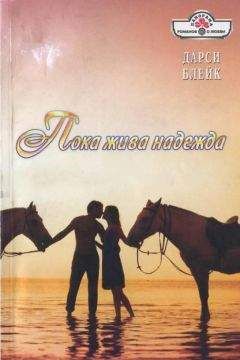Борис Дьяков - Повесть о пережитом
Привезли со штрафной колонны захворавшего Гришу Спиридовича: порок сердца. Положили в третий корпус. Но неуемной бухгалтерской душе не лежалось: привык щелкать на счетах. И здесь, едва ли не с первого часа поступления, добровольно начал ходить на подмогу Дидыку.
Спиридович, Дидык, Рихтер и я обычно вечером делали несколько кругов по двору, обсуждая «текущие дела и перспективные планы». Как-то раз в воскресенье мы вышли на «кросс» еще задолго до ужина.
— Все идет к лучшему, — уверял, быстро шагая, Гриша. — Но, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Уберут ли всех гнусов, этлиных и лихошерстовых с лагерных постов? Боюсь, что нет. Передвинут, как шашки, с одного пункта на другой. Здесь он был черт чертом, а там заявится, согласно новой инструкции, ангелом. И вот вопрос: надолго ли хватит у чертей «ангельского терпения»?..
Около кухни мы встретились с главным врачом Анной Васильевной. Поздоровались. Она остановилась, посмотрела на «четырех богатырей» через очки. Сняла их, стала протирать, вскинула голову. Сверкнули знакомые искры в ее зрачках. Анна Васильевна потянула носом.
— Что за убийственная вонь? — недоумевая, спросила она.
В кухню поступила залежавшаяся на складе требуха. Варили на ужин рубцы. Густое зловоние выползало из кухонных дверей. Мы объяснили в чем дело. Анна Васильевна покачала головой, надела очки и решительно направилась в пищеблок.
Не прошло и минуты, как пулей вылетел из кухни толстяк в белом фартуке, раскрасневшийся, с выпирающими пухлыми ушами. За ним — Коля Павлов, тоже в фартуке, колпаке и с занесенной в руке деревянной мешалкой. Лицо его сияло восторгом. Мешалка вытянулась по спине толстяка. Тот взвизгнул, упал. Тут же ошеломленно вскочил на ноги и кинулся во двор. Бежал, подпрыгивая, точно мяч. Павлов взапуски за ним. В дверях кухни стояла рассерженная Анна Васильевна. Мы привыкли к ее тихому голосу, и было странно слышать, как она кричит:
— Позовите надзирателя!.. Надзирателя!..
В пищеблок помощником повара прислали бандеровца по кличке Ушастый. Желая выслужиться и как можно дольше продержаться у кухонной плиты, Ушастый принялся строчить клеветнические доносы. Шила в мешке не утаишь, и в пищеблоке стало известно о подлых делах бандеровца. Отделаться от него было не так просто. И вот, неизвестно каким путем и по чьей инициативе, в котле с баландой, которую варил Ушастый, Анна Васильевна, снимая пробу, нашла плавающую цигарку. Подозвала Павлова. Тот схватил мешалку… А все остальное мы видели…[39] Ушастый попал в карцер, потом на этап.
На другой день пришла долгожданная весть от Веры: «Была в ЦК, в прокуратуре. Твое заявление там… Получил письмо и Большаков, передал его со своей характеристикой в Комитет госбезопасности… Буду ходить, ходить, настаивать, добиваться…»
Во время очередного вечернего кружения по зоне мы обсуждали Верино письмо.
— Усё, усё! — делал вывод Дидык. — Лид двинувся. Свитла стэжца лягла перед тобою, Борис!
— Собирай шмотки! — весело говорил Спиридович.
Рихтер молчал и кротко улыбался.
Врач Ермаков, подойдя к нам, стал подтрунивать:
— С одного капкана в другой сунут.
Я не вытерпел и пошел в наступление на доктора.
— Почему ты такой злой, Петр Владимирович?.. Почему тебе доставляет удовольствие отравлять другим настроение?.. Почему ты видишь только плохое, а хорошего не замечаешь?..
Ермаков взвился:
— Что ты меня агитируешь?.. Кто тебя подослал?.. Пшел вон, коммунистическая душа!
Нас разняли, а то быть бы потасовке…
Панкратов принес мне письмо в конверте со штампом: «Генеральный прокурор СССР». Строчки забегали перед глазами.
— Пересмотр… пересмотр… — повторял я. — О результате сообщим…
Оторопело глянул на Панкратова. Тот улыбался во весь рот.
Подошел Соковиков. Прочитал.
— Конец! — сказал он твердо.
— Что значит — «конец», гражданин оперуполномоченный? Расшифруйте!
— Тебе скоро вот «расфаршируют»! — зло бросил стоявший тут же Ермаков.
— Прекратите выпады, доктор Ермаков! — Соковиков побагровел. — Чтоб я больше не слышал ваших истерических выкриков!
И — ко мне, уже спокойно:
— Поедешь на свободу. Таких извещений еще не видал!
Накануне майских праздников Соковиков, застав меня в конторе, лукаво мигнул Дидыку, который был, как выяснилось, в курсе дела, и спросил:
— Сказать, а?
— Добряче дило зробите, гражданин опэр!
Соковиков сдвинул брови, пряча улыбку в глазах.
— Так вот, стало быть… То, что тебя освободят, — факт. Тут твоя заслуга. А вот то, что скоро освободят, — мне обязан. Точно!.. Знаешь, какую послал характеристику? Самую лучшую!.. Что, стало быть, не имеешь нарушений лагерного режима, в общениях с зеками и вольнонаемными высказываешь мысли, привитые тебе родной Коммунистической партией!.. Понял?
Мы подумали, что он шутит. Дидык знал, что отослана характеристика, но чтоб такая!.. Дружно рассмеялись.
— Что смеетесь? — обиделся Соковиков. — Дураками нас считаете?.. Знаем, что тут и невиновные коммунисты сидят, не беспокойтесь![40]
Пришло письмо, которого я никак не ждал. Оно было адресовано на штрафную и оттуда переслано в сангородок. Писал Тодорский! Из Енисейска… Второго апреля. Я читал письмо и, казалось, слушал голос самого Александра Ивановича:
«Дорогой Борис Александрович!
В Троице-Сергиевой лавре, мне говорили, есть надгробная плита с надписью: „Завидуй! Я уже здесь, а ты еще там“. Так и я тебе, узнику штрафного лагпункта, могу сказать: „Завидуй! Я уже здесь“.
Можешь представить себе, что, находясь в вечной ссылке, без паспорта, почти у черта на куличках, я чувствую себя действительно хорошо и ничего лучшего не желаю. Воздуха сколько угодно. Советская власть есть, газеты и книжки есть, свой угол, интеллигентская работа и 450 целковых жалованья. А главное и основное — прошли все страхи насчет того, что снова посадят в собачий ящик и — поминай как звали!.. Сейчас определенно устанавливается законие, хотя мы еще ходим в „бывших“.
Веришь ли, муторно было освобождаться из лагеря. Искренне жалел: почему в свое время мне припаяли 15 лет, а не 20! К концу моего срока стали возвращаться в лагерь некоторые недавно выпущенные товарищи с новым сроком. Такая планида мне не улыбалась, и я с тревожным сомнением вышел за ворота больницы в начале прошлого июня, вскоре после того, как тебя спровадили на штрафную. Увезли меня в Тайшет, на пересылку.
Там парились дней двадцать. Запирали в бараках на ночь под увесистый замок.