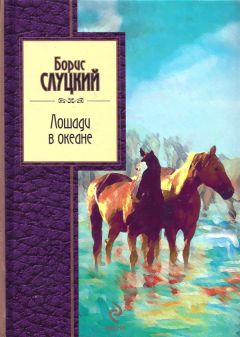Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
Эзоповский язык этого стихотворения довольно легко расшифровывается человеком того времени: «Добро» в мятом картузе и с выбитыми в сталинских лагерях зубами отвергает и не берет протянутую руку «Зла», на котором «форменная» фуражка энкавэдиста. Отныне «Добро» не поддастся ни на какие казуистические уловки «Зла». Отныне Борису Слуцкому и человеку схожих с ним убеждений не нужно придумывать объяснения той или иной мерзости, с которой они столкнутся в советской жизни. Они будут называть мерзость мерзостью и зло злом. Отныне их не обморочат. Можно расширить толкование и увидеть хитреца-крестьянина Никиту Хрущева в «картузе» и злобного Сталина в «фуражке» генералиссимуса. Но это уже не обязательно.
28 июля 1956 года в «Литературной газете», издаваемой в то время огромным тиражом, наиболее популярной газете советской интеллигенции, появилась статья Ильи Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого». Поэт, который еще вчера был «широко известен в узких кругах», оказался выведен едва ли не в первые ряды советской поэзии.
Статья имеет основополагающее значение для оценки и понимания стихов Слуцкого.
«Что меня привлекает в стихах Слуцкого?» — задает вопрос Эренбург и отвечает: «Органичность, жизненность, связь с мыслями и чувствами народа. Он знает словарь, интонации своих современников. Он умеет осознать то, что другие только смутно предчувствуют. Он сложен и в то же время прост, непосредствен. Именно поэтому я принял его военные стихи за творчество неизвестного солдата. Он не боится ни прозаизмов, ни грубости, ни чередования пафоса и иронии, ни резких перебоев ритма…»[168]
Приведя строки из «Кельнской ямы», Илья Григорьевич продолжает свою характеристику творческого почерка Слуцкого. «Неуклюжесть приведенных строк, которая потребовала большого мастерства, позволила Слуцкому поэтично передать то страшное, что было бы оскорбительным, кощунственным, изложенное в гладком стихе аккуратно литературными стихами»[169].
«Называя поэзию Слуцкого народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа — его подвиги и горе, его тяжелый труд и надежды, его смертельная усталость и непобедимая сила жизни… если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова»[170].
Но не только народность поэзии Слуцкого позволила Эренбургу сделать такое рискованное для пятидесятых годов сравнение. Слуцкого обвиняли в неумеренной прозаизации стиха (одна из ругательных статей о поэзии Слуцкого так и называлась: «А что, коль это проза?»). Между тем именно «Некрасов дал первый образец прозаического стиха»[171]. Его новаторство в том и заключалось, что «решительно и без боязни расширил он владения поэзии, с лугов зеленых и вольных полей ввел ее также в городские ворота, на площади, в угар суетливых улиц. Это — завоевано, это — мрачная провинция красоты»[172]. «Мрачная провинция красоты», «угар суетливых улиц» — мир в той же мере «Слуцкий», как и некрасовский. Проникновение прозы в стих, их слитность — ярчайший признак поэзии обоих авторов.
Эренбург очень точно определяет одну из особенностей гражданской лирики Слуцкого. «Слово “лирика”, — пишет он, — в литературном просторечье потеряло свой смысл: лирикой стали называть стихи о любви. Такой “лирики” у Слуцкого нет… однако все его стихи чрезвычайно лиричны, рождены душевным волнением, и о драмах своих соотечественников он говорит, как о пережитом им лично»[173].
В сравнительно небольшой газетной статье Эренбургу удалось представить Бориса Слуцкого, у которого еще не было ни одного опубликованного сборника, как большого, состоявшегося поэта, уже занявшего в литературе законное, причитающееся ему по праву место. Юрий Болдырев, друг Бориса Слуцкого, его литературный секретарь, знаток и публикатор его поэтического наследия, в своем эссе, посвященном 25-летию опубликования статьи Эренбурга, писал: «Илья Григорьевич Эренбург был первым, кто по достоинству оценил поэтический талант Бориса Слуцкого, понял, явление какого характера и уровня входит в русскую литературу»[174].
Хотя Эренбург отправил свою статью в редакцию «Литературной газеты» в 1956 году, после того как уже прошел XX съезд, публикация оказалась довольно трудным делом. Как ни удивительно, помог случай. «Статья Эренбурга была напечатана только потому, — пишет известный исследователь творческого наследия Эренбурга Б. Фрезинский, — что его <Эренбурга> антагонист, главный редактор “Литературной газеты” Вс. Кочетов (знаковая фигура тогдашней литературной жизни) — одиозный своей оголтелой “идейностью” сталинист, находился в отпуске; но это не значит, что у заказавших статью “антикочетовцев” была возможность опубликовать ее не глядя… Цензурная правка, хотя и небольшая по объему, была существенной и четко характеризовала время»[175]. Убрали упоминание Мандельштама. Хотя полностью напечатали фразу Эренбурга: «Если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова», но добились от автора оговорки: «Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России». Убрали ремарку Эренбурга к строчкам Слуцкого о народе («Не льстить ему. Не ползать перед ним…») — «Он противопоставляет себя и отщепенцам и льстецам». Наконец, выкинули весь абзац, в котором автор возлагал большие надежды на возрождение русской литературы после смерти Сталина.
«Вернувшийся в Москву Кочетов, — пишет Б. Фрезинский, — крайне разозленный статьей Эренбурга, мог только вослед напечатать дезавуирующий ее материал. Так появился в “Литгазете” сочиненный профессионалами этого дела опус “На пользу или во вред? По поводу статьи И. Эренбурга”»[176]. Опус подписали именем школьного учителя физики Н. Вербицкого, который выражал надежду, что, «возможно, Б. Слуцкий в будущем будет писать хорошие произведения».
Вот что писала Эренбургу по поводу этой публикации Ариадна Эфрон:
«Что за сукин сын, который написал свои соображения (свои ли?) по поводу Вашей статьи о Слуцком? Для простого преподавателя физики или химии, или Бог знает чего там еще он удивительно хорошо владеет всем нашим советским (не советским!) критическим оружием, т. е. подтасовками, извращениями чужих мыслей, искажением цитат, намеками, ложными выводами и выпадами. Кто стоит за его спиной?
А все-таки хорошо! Не удивляйтесь такому выводу — мне думается, хорошо то, что истинные авторы подобных статей уже не смеют ставить под ними свои имена, ибо царству их приходит конец. Они прячутся по темным углам и занимаются подстрекательством, но оружие, которым они так мастерски владели, уже выбито из их рук. И вот они пытаются всучить его разным так называемым “простым” людям, той категории их, которой каждый из нас имеет право сказать: “сапожник, не суди превыше сапога”»[177].