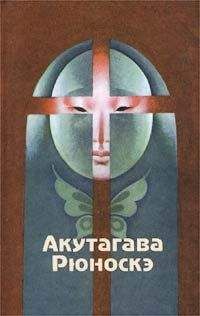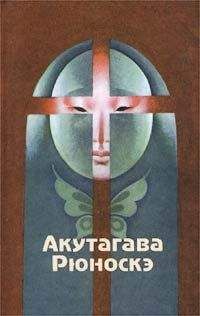Леон Островер - Тадеуш Костюшко
Полк легкой кавалерии полковника Берека Иоселевича три раза отбивал атаки, прикрывая фланг раненого генерала Зайончека; к концу дня от полка Иоселевича осталось в живых всего шесть человек.
Пала Прага.
9 ноября, через месяц после Мацеёвичей, Суворов вошел в Варшаву.
Восстание подавлено.
Величайшей трагедией для польского народа было то, что в дни восстания не было в Польше политической силы, которая могла бы возглавить борьбу трудящихся масс за свое национальное освобождение, против феодального строя.
Трагедия польского народа стала личной трагедией Костюшки.
Но кровь повстанцев не ушла в песок. Восстание отвлекло на себя все силы Пруссии: с весны 1794 года Пруссия уже не принимала участия в борьбе против революционной Франции. Восставшая Польша приковала к себе часть военных сил Австрии и затормозила подготовку русского царизма к интервенции против Франции. «Польша пала, но ее сопротивление спасло французскую революцию».
В разговоре с Немцевичем Костюшко верно предвидел будущее. Восстание 94-го года стало началом национально-освободительного движения первой половины XIX века. Самые яркие страницы истории польского народа связаны с этим движением. От Тадеуша Костюшки и его соратников из радикального крыла (Гуго Коллонтай, Якуб Ясинский, Юзеф Мейер, Казимир Конопка) идет та славная традиция, которая вдохновляла польских революционеров позднейших поколений.
Борьба, начатая ими в 94-м году, завершилась полной победой в 1944 году.
Польские войска под знаменем Тадеуша Костюшки плечом к плечу с победоносной Советской Армией изгнали из своей страны коричневых захватчиков и осуществили мечту лучших своих сынов: Польша стала свободной, независимой, народной.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«ПУСТЬ ЖИВЫЕ НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ»
остюшко был ранен в голову и в левое бедро. Хирург, вызванный генералом Ферзеном, раны перевязал, а после перевязки доверительно сообщил Немцевичу.
— Навряд ли выживет.
Костюшко, однако, выжил. Первые два дня он находился в обморочном состоянии, бредил, порывался вставать, говорил, что в Сехновицах ждут его жена и дети, а к утру третьего дня он осмысленными глазами поглядел вокруг и, встретившись взглядом с Немцевичем, встревоженно спросил:
— Где мы?
— Тадеуш, — обрадованно ответил Немцевич, — все хорошо, все хорошо.
— Где мы? — повторил Костюшко более настойчиво.
По тону, по огоньку в глазах понял Немцевич, что лукавить с Костюшкой нельзя.
— Тадеуш, мы в плену.
— Только мы с тобой? — быстро, не переводя дыхания, спросил Костюшко.
— Нет, Тадеуш, не только мы с тобой.
Весь этот день Костюшко лежал с закрытыми глазами, но Немцевич видел, что он не спит. Дважды заходил генерал Ферзен: постоит у кровати, покачает головой и уходит.
Под вечер Костюшко спросил:
— Много пленных?
— Больше десяти тысяч.
— Есть у нас деньги?
— Из Варшавы прислали четыре тысячи дукатов.
После длительного молчания Костюшко сказал:
— Передай деньги пленным.
— Сколько?
— Все! Все!
— Тадеуш, нам предстоит дальняя дорога.
— А им?
— Мы еще потребуем денег из Варшавы.
— Хорошо. Передай им пока две тысячи… Урсын, а Понинский тоже в плену?
— Нет, Тадеуш, он ушел до конца боя.
Их разговор прервал остановившийся на пороге русский офицер.
— Собирайтесь, господа, выступаем.
Костюшко не знал русского языка.
— Что он говорит?
— Уезжаем отсюда, — пояснил Немцевич.
— Урсын, ступай к генералу Ферзену, пусть повременит с отъездом. Скажи ему, что польское правительство обменяет нас на русских пленных.
Офицер, видимо, понял смысл предложения Костюшки.
— Не утруждайтесь, господа, генерал Ферзен уже отбыл.
Явился хирург с санитарами, Костюшко одели и на носилках вынесли во двор. Там уже ждала их повозка.
— А Немцевич? Немцевич? — взволновался Костюшко.
Из дома выбежал Фишер, без шинели, без, шапки. Он кинулся к Костюшке, обнял его, смеялся и плакал.
— Живы! Живы!
— Фишерек… Фишерек… И ты со мной.
— До згона![43]
Подошел русский офицер.
— Зачем вы, господа, прощаетесь, — сказал он укоризненно, — все едем в одну сторону.
Хирург, огромный и грузный, сначала проверил, достаточно ли сена под раненой ногой Костюшки, потом взобрался на повозку, накрыл раненого попоной и, устроившись спиной к кучеру, сказал казачьему уряднику, прискакавшему с десятком бородатых конников:
— С богом!
Выехали со двора. Был тихий вечер. Деревья простирали к небу голые ветви. Соломенные крыши крестьянских халуп были подернуты инеем. В сторону Мацеёвичей тянули вороньи стаи.
Но Костюшко всего этого не видел: он был в обмороке.
Вслед за Костюшкой выехала со двора крестьянская телега: в ней разместились Княжевич, Сераковский, Копец, Немцевич, Фишер и русский офицер.
Первый снег. Русский офицер добыл розвальни и усадил в них, кроме Костюшки с хирургом, Немцевича и Фишера.
Рана на голове затягивалась, Костюшко уже так часто не впадал в обморок, но все же чувствовал себя очень слабым. Всю дорогу он дремал.
В таком безучастном состоянии он проехал Чернигов, Могилев, Витебск, Великие Луки, Псков, Гатчину, и только 29 ноября, когда сани въехали в широкие и приземистые ворота Петропавловской крепости, Костюшко впервые за всю дорогу обратился к сопровождающему офицеру по-русски:
— Почему?
Офицера смутил этот вопрос: он также не понимал, почему генерала, взятого в плен на поле боя, везут в Петропавловскую крепость, — ведь в ней содержат только русских подданных, нарушивших законы Российской империи.
— Пути господа неисповедимы, — ответил он дипломатично.
Костюшко ответа не понял.
Костюшке показалось, что его опустили в глубокий колодец, куда ни шумы жизни, ни солнечный луч не долетают. Больная нога приковала его к койке, он лежал на спине и дни, недели видел один только потолок, мглисто-серый, который лишь к закату чуточку теплел.
Первые дни вел Костюшко внутренний спор со своим прошлым. Бесстрастно, как историк, изучал он важнейшие этапы восстания и каждый этап рассматривал с двух точек: как это событие протекало в действительности и как бы оно протекало, если б он, Костюшко, проводил в жизнь те радикальные реформы, которые сам считал нужным проводить.
Гуго Коллонтай был основательнее, чем он, подготовлен к политической деятельности, но роль Робеспьера или Марата, роли, которые Коллонтай ему навязывал, Костюшко играть не мог по своим душевным качествам.