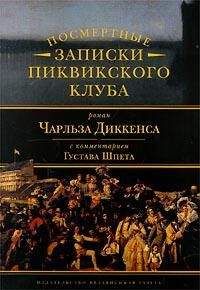Евгений Ланн - Диккенс
Наутро он сидит за брекфастом вместе с Кэт и читает газету. Из отчета о бале он узнает, что был очень бледен, очень бледен во время бала. Странно! Насколько он помнит, щеки его пылали от возбуждения и духоты.
А затем он хохочет так, что роняет газету на пол, и слезы выступают у него на глазах. Кэт осведомляется, что с ним. Репортер утверждает: Чарльз Диккенс был бледен от смущения. Бедняга Диккенс! Он никогда не бывал в таком обществе, какое встретил на балу, и был бледен от потрясения. Изысканный тон общества произвел на него совершенно неизгладимое впечатление. Вот именно поэтому «славный парень» был очень бледен. Все.
Демократическая Америка, по-видимому, полагает, что при виде «изысканного общества» у каждого из граждан Америки, равно как и у иностранцев, не привыкших к «изысканному тону», есть все основания бледнеть от смущения. Чудеса!
Нью-йоркцы встречают его так же, как бостонцы, хартфордцы и ньюхевенцы. Паломничество в Карлтон Отель не иссякает. Он быстро одевается и выходит на Бродвей. Он намерен идти пешком по этой прославленной улице, чтобы понаблюдать ее нравы и запомнить внешний ее вид.
Его узнают немедленно. За ним тащится хвост зевак. Ничего не поделаешь, пусть глазеют, а он будет запоминать. Бродвей шумит, грохочет колесами бесчисленных карет, он словно доверху наполнен уличными криками, стуком лошадиных копыт. Наемные кэбы, кареты, фаэтоны, тильбюри с гигантскими колесами, коляски катятся мимо магазинов и лавок, которым нет конца. А на козлах — негры; их много, не меньше, чем белых. На тротуарах джентльмены, которые, кажется, сговорились носить бакенбарды, обрамляющие не только щеки, но и выбритый подбородок. А леди сговорились в этот весенний солнечный день сочетать в своих нарядах все цвета, знакомые человечеству.
С Бродвея гость сворачивает в одну из боковых улиц, а затем, идя дальше, попадает на Боуэри. Это тоже улица, но здесь витрины магазинов совсем не нарядны, а пешеходы одеты совсем просто — в рабочих блузах; и вместо тильбюри и колясок громыхают повозки и телеги. Зеваки понемногу отстают, видя, что Чарльз Диккенс собирается войти в некое здание, которое хорошо известно нью-йоркцам.
В этом здании подследственная тюрьма. У нее мрачное название — «Гробницы».
Почетному гостю показывают «Гробницы». В тюрьме четыре галлереи — одна над другой, идущие вокруг здания. Крылья галлерей соединяются между собой мостами. В каждом крыле — железные двери, — за ними — камеры.
Камеры крохотные, низкие; сквозь узкое оконце под потолком еле проникает дневной свет. Тюремный двор напоминает могилу, на нем приводят в исполнение смертные приговоры. Заключенные очень редко гуляют на дворе, — это признает сторож, которого любезный начальник «Гробниц» отрядил сопровождать любознательного мистера Диккенса. Заключенные предпочитают гулять у себя в камере, и начальство нисколько не настаивает на обязательных прогулках. Странно. Ведь этак заключенный может просидеть без воздуха немало месяцев. Это его дело, решает сторож, а на вопрос, почему в одну из камер попал мальчик, дает удивительный ответ. Этот мальчик ни в каком преступлении не заподозрен, о нет, напротив, он должен дать показания, устанавливающие вину его отца, — и только. Закон стало быть разрешает заточить свидетеля в тюрьму, пока на наступит день суда. Посетив несколько камер, познакомившись с некоторыми заключенными, любознательный гость узнает, что своим мрачным названием тюрьма обязана дурной славе: вскоре после ее открытия несколько заключенных предпочли повеситься и не ждать окончания следствия.
Из тюрьмы гость снова идет в боковую улицу, попадает в какой-то переулок, снова сворачивает и мало-помалу убеждается, что Нью-Йорк в самом деле большой город. Нет, Нью-Йорк не похож на Бостон, вот квартал, очень напоминающий лондонский Уайтчепль. Улицы грязные, ничуть не меньше, чем в этом прославленном лондонском квартале, а дома мало чем отличаются от уайтчепльских трущоб. Они подгнили и словно перекосились. И жители Пяти Углов не отличаются от обитателей лондонской Майль Энд Род. И трактиры здесь и бары так же грязны, а завсегдатаи очень уж похожи на мистера Сайкса и несчастную Нэнси. Словом к Пяти Углам в сумерках лучше не приближаться джентльмену, если его не сопровождают полицейские агенты. Да, Нью-Йорк — большой город, не чета Бостону.
Но почтенные граждане этого большого города не удовлетворяются публичным балом, данным в честь знаменитого гостя. Наступает день публичного обеда, о котором возвещало трогательное приветствие, подписанное комитетом — сорока одним именитым гражданином.
Надо обдумать речь — ответный спич, который придется произнести перед лицом демократической Америки. Он уже произносил спичи и в Бостоне, и в Хартфорде и в Ньюхевене, но нью-йоркский спич отзовется по всей стране куда громче, чем произнесенные. Он, Диккенс, исполнен радости от сознания, что ступает по земле подлинно демократической страны; мало писателей столь же искренние демократы, как он, в этом он убежден, — и каждый, кто знает его книги, может убедиться в этом. Мало писателей оценивают так высоко, как он, молодость и силу республики, призванной воплотить высокие идеалы ее великих основателей. И так далее, в том же духе.
Ясно и просто? К сожалению, не совсем.
Диккенс шагает по комнате — это приемная в апартаментах Карлтон Отеля. По американскому обычаю, в ней очень мало мебели, и нет опасности наткнуться на что-нибудь, когда шагаешь задумавшись. А подумать надо, чтобы как можно деликатней выразить в этом ответном спиче некую здравую идею. Он уже дважды пытался ее выразить, но получилось черт знает что… И надо сознаться, он никак не ожидал того, что последовало за его спичами в Бостоне и в Хартфорде. Об этом как-то не хотелось думать, пока не было необходимости набросать мысленно план спича, который вот-вот надо произнести. Сейчас полезно вспомнить, что, собственно говоря, произошло.
Когда он ехал сюда, он не собирался начинать кампанию за издание здесь, в Америке, закона об авторском праве, который защитил бы писателей от американских издателей. Потому он решил только упомянуть в Бостоне о несправедливости, чинимой американцами по отношению к иностранным писателям. Упомянул он и в Хартфорде, причем говорил и там не о себе, а о Вальтере Скотте.
Сейчас не хочется даже вспоминать о том, как отозвалась Америка на такую смелость чужестранца. Анонимные письма, ругательные до неприличия. Устное возмущение наглостью гостя, который оказался корыстолюбивым негодяем. Возмущением обиженных американцев управляли газеты. Пресса! Она торжественно объявляла, что известный убийца Кольт не столь опасен, как наглый чужестранец. Если свобода печати заключается в праве издателей-дельцов расправляться с неугодными им людьми, — бог с ней, со свободой печати!