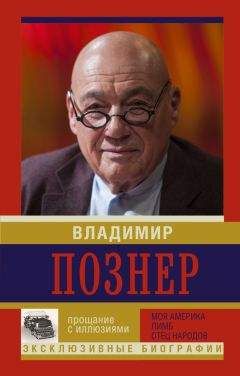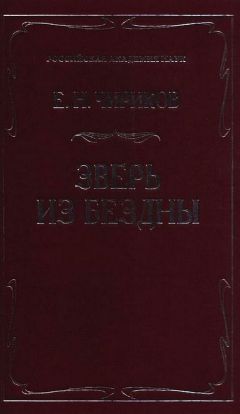Владимир Познер - Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию»
В июле 1975 года отец с мамой поехали в гости к его сестре во Францию. Катя, Павел и я проводили их с Белорусского вокзала. Я помню, каким он показался мне худым, хрупким, с желтоватым цветом лица. Я не догадывался о том, что мы видимся в последний раз. Через десять дней мама позвонила из Парижа и сообщила, что папа умирает. Врачи поставили ему диагноз «галопирующая лейкемия». Она сказала, что завтра они срочно вылетают в Москву, и попросила меня поговорить с отцом – он лежал на втором этаже тетиной квартиры и не слышал ее слов. Поразительнее всего то, что я совершенно не помню нашего с ним разговора. Помню только, что у него был необыкновенно слабый голос, а я разыгрывал невероятную бодрость, шутил о том, как искусно он притворяется, будто болен – словом, пустая болтовня. Потом мир для меня замер. Катя подключила все свои связи[8] и добилась организации специальной палаты в институте, возглавляемом министром здравоохранения Петровским (правда, услышав диагноз, тот выразил надежду, что отец умрет раньше, чем прилетит, поскольку лечение очень тяжелое и совершенно бесперспективное). Я слышал все это, наблюдал, сам куда-то звонил и что-то говорил, но то был не я. Я как будто замер, окаменел, находился далеко-далеко от всего происходящего и сидел в полном одиночестве…
Встречать самолет мы поехали вдвоем с Павлом. Тогда у меня не было машины, поэтому транспорт предоставил Виктор Александрович, верный кагэбэшный друг отца. За рулем сидел молодой человек лет тридцати. Он очень походил на образцового ирландского полицейского из Нью-Йорка моего детства: рыжеватые волосы, синие, словно сапфиры, глаза, белейшая кожа, белозубая улыбка и великолепное телосложение. Мы ехали на «жигуленке» ярко-синего цвета, который ничем не отличался от всех прочих машин, если не считать того, что у него явно был форсированный двигатель. Да и водитель походил на профессионального гонщика: мы мчались по Московской кольцевой дороге со скоростью под сто восемьдесят километров в час, причем время от времени водитель включал сирену, при звуке которой все остальные машины тут же шарахались в стороны, уступая дорогу.
Помню, какое удовольствие получал от этого мой брат. Он кайфовал от подобной демонстрации силы, вседозволенности. Я видел, как он буквально захлебывается от восторга…
На входе в здание аэровокзала нас встретил представитель «Аэрофлота». Он сказал мне, что только что получил сообщение с борта самолета рейса Париж – Москва – один из пассажиров умер. Я знал, о ком идет речь.
Папа умер в десяти тысячах метров от земли. Не в Советском Союзе, не во Франции. Он умер… нигде, он умер между, он умер, можно сказать, символично. И каждый раз, когда я думаю о нем, о его смерти – а думаю я об этом часто, меня пронзает острая боль. Из-за того, как скверно обошлась с ним жизнь. Из-за того, что его мне не хватает. Из-за того, что я всегда его любил – хоть ни за что не хотел признаться себе в этом…
Я все еще храню те два письма, ошибочно врученные мне девушкой на Главпочтамте. Написавшая ихженщинажива, более того, она стала довольно известным кинокритиком. Быть может, я как-нибудь вложу их в конверт и пошлю ей. С миленькой записочкой от меня. Как говорится – pourquoi pas?[9]
* * *Я не написал о том, что во время этого романа мой отец пытался добиться, чтобы мы с Валей подружились с его пассией… Прошло с тех пор много времени; не знаю, жива ли еще та дама, давно эмигрировавшая в США. Имя ее – Марианна Сергеевна Юткевич, в замужестве – Шатерникова. Если она жива и если эти слова попадутся ей на глаза, я буду рад этому обстоятельству: пускай узнает, что нанесла глубокую рану моей маме (с которой она целовалась и миловалась) и что стала повинной в долгих годах отчуждения между мною и моим отцом. Хотя вспоминаю стихотворение Лермонтова, где есть такие слова:
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!
Не в бровь, а в глаз.
Председатель Гостелерадио СССР Сергей Георгиевич Лапин, который, как потом выяснилось, поручился за меня, воспринял отказ мне в выезде как личное оскорбление. Не потому, что он как-то особенно относился ко мне или ценил мою работу. Просто КГБ, воспрепятствовав мне, несмотря на поручительство Лапина, фактически ударило по его статусу, по его престижу. Не будем забывать, что он возглавлял весьма важное учреждение, был членом всесильного Центрального Комитета КПСС. Кроме того, дружил с Брежневым. Уж если Лапин чего-то захотел, он должен был это получить и мириться с отказом какой-то кагэбэшной шестерки не собирался.
В результате его действий я поехал в командировку в Венгрию, в город Веспрем – это было летом 1977 года – для участия в телевизионном фестивале. Правда, делать там мне было решительного нечего, поскольку я не занимался ни Венгрией, ни (в то время) телевидением.
Эта поездка сыграла особую роль в моей жизни. Из-за обилия свободного времени я попросил разрешения у руководителя советской делегации Александра Каверзнева поехать на два-три дня в Будапешт. (Каверзнев был, на мой взгляд, самым талантливым среди политических обозревателей Гостелерадио, по-моему, он прекрасно понимал реальное положение вещей и оттого пил. Запойно.) Он отпустил меня. И вот, гуляя по улицам этого довольно красивого города, я увидел кинотеатр, на фронтоне которого анонсировался фильм «One Flew Over the Cuckoo's Nest» (русское название – «Пролетая над гнездом кукушки») с Джеком Николсоном в главной роли. Я, признаться, не представлял тогда, кто такой Николсон, меня привлекла информация, что фильм идет на английском языке с венгерскими субтитрами. Я купил билет, вошел в кинотеатр… и вышел оттуда другим.
В этой великой картине Николсон играет человека по фамилии МакМэрфи, который попал в психушку за свой буйный нрав и пытается расшевелить пациентов вполне здоровых, но «спрятавшихся» здесь от внешнего и враждебного мира. В ключевой сцене фильма он спорит с ними (на сигареты – денег у них нет) о том, что оторвет от пола тяжелейший умывальник. Вот он нагибается, хватает умывальник и пытается его оторвать – жилы вздуваются на лбу, на шее, такое ощущение, что у тебя у самого сейчас лопнут жилы – но сил не хватает. Он выпрямляется, поворачивается и медленно уходит под смешки тех, с кем поспорил. Затем останавливается на мгновение и говорит: «По крайней мере, я попробовал».
И вдруг я понял: в этом и есть смысл жизни, обязательно, во что бы то ни стало надо попробовать. Не имеет значения, с успехом или нет. Потому что даже если тебе не повезет, твой пример окажется решающим для кого-то другого… В конце картины громадный индеец вырывает-таки умывальник, разбивает им зарешеченное окно психушки и убегает в ночь.