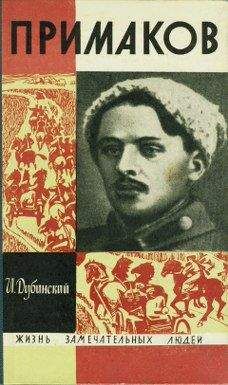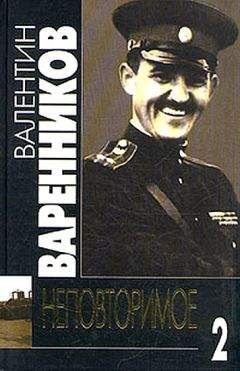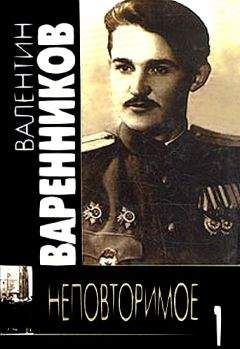Илья Дубинский - Особый счет
Фельдман стоял у своего письменного стола, большой, плечистый, с крупной головой и черными жесткими глазами. Он сказал, что я назначаюсь помощником начальника Казанского танкотехнического училища. Приказ у наркома на подписи.
— Но Якир говорил о ленинградской или горьковской школе... — сказал я.
— Вы в своем уме? — строго возразил начальник управления кадров. — Кто же после всего случившегося возьмет на себя такое? Нет, пока о школе не мечтайте.
— А что же случилось? — недоумевал я.
— Разве мало вас прорабатывали за Шмидта? С этим вы должны считаться. Я сейчас позвоню, вам дадут путевку в Архангельское. Езжайте туда, ждите приказа наркома. В вашем положении не выбирают, полковник, а берут то, что дают!
— Мое положение, товарищ комкор, правда, незавидное, но не такое уж позорное. К делам Шмидта не имел никакого отношения.
Начальник кадров сморщил уголок рта.
— Вообще я вас не знаю! Вы работали в Совнаркоме. Мы вас не выдвигали. Вас выдвинул Якир. За вас хлопотал. И все! И Халепский был против вас!
Начальство не скупилось на путевки. Ничего не скажешь. И хоть Амелин уверял меня, что на новом месте мне не придется ничего говорить о причине перевода, но я явлюсь в Казань с ярлыком «замеченного». Не на месяц, не на два. Это я хорошо понял после разговора с Фельдманом.
Хотел сходить к доверенному лицу наркома, бывшему комиссару штаба червонного казачества Григорию Штерну, но мне сказали, что он в Испании. Оставив в Гомеле 7-ю кавалерийскую дивизию, он уехал на Пиренеи военным советником.
В тот же день в магазине Елисеева я услышал за спиной радостный возглас: «Mon colonel!» To была Флорентина д'Аркансьель. Встретила меня она, как старого доброго знакомого. Рассказала, что ее Биби снова в Париже — работа, строительство... А вот ей еще нельзя туда ехать. Застряла в Замоскворечье, в «Балчуге». Смеясь, поведала, что не раз встречалась на Арбатской площади с веселым кудрявым товарищем. Он все собирался показать ей свою игру на скрипке. Да вот все не собрался... Ну, конечно, это был Саша Круглов.
Вспомнил Легуэста, французов, приглашавших меня в свою страну. Но эта поездка не состоялась. Все складывалось по-иному.
Звонить Круглову не хотелось. Чем я мог порадовать товарища? Да и положение «замеченного» сдерживало меня.
Отправился я в Архангельское. С неделю поработал там над рукописями. А на душе было тяжко. Однажды в вестибюле встретил только что прибывших людей: Круглов привез свою жену Эльзу Антоновну.
Александр сразу обрушился на меня — почему не зашел, не звонил. Я ему ответил почти то же самое, что ответил Никулин комкору Тимошенко в Сочи. Не хотел бросать тень на ответственного работника ПУРа.
Но тут оба — Александр и Эльза — энергично замахали руками.
— Что ты? Будто мы не знаем тебя? Слава богу! Ведь я за тебя могу где угодно поручиться! Но Митька, какой подлец, какой негодяй!
— А ты грустил, что он тебя как-то в Ростове не принял, когда ты ему позвонил с вокзала.
— Ну его к дьяволу! Жаль только, что ты из-за такого подлеца пострадал. Смотри, будешь в Москве, кати сразу к нам, на Чистые пруды...
Эти теплые, дружеские слова обрадовали меня. Значит, не все еще охвачены психозом терроромании!
Приказа все еще не было. Больше десяти дней я не вытерпел в Архангельском. Ни прогулки по усыпанным снегом дорожкам, ни задумчивые сосны, ни каток не успокаивали меня. Захватив чемоданчик с рукописями, укатил в Киев.
Был конец декабря. Уходил заполненный большими радостями и горькими печалями 1936 год. И дома было невесело. Никто мне не звонил. Никто не звал в гости. И мы не приглашали никого. Не верилось, что под нами и над нами, во всех этажах большого дома на Золотоворотской, живут люди, с которыми столько лет был связан работой и борьбой. Казалось, что во всем холодном и безразличном мире я остался один.
Начался надлом, боязнь, недоверие. Надлом, который вскоре превратится в бездну. Боязнь, которая перерастет в страх. И недоверие, которое перейдет в отлучение.
Встретили мы Новый, таивший в себе много неизвестного, 1937 год дома. На прошлой, гагринской, встрече было тридцать три человека, на этой нас было трое: мать, жена и я. Невольно подумал: а где и в каком составе придется встречать следующий год?
Заговор коварного криводушия
От берегов Днепра
Киевская опера, хоть и не Большой, но все же столичный театр. И музы не молчат ни когда гремят пушки, ни когда звенят кандалы. Любая опера — место бойкое. Вот почему, когда накануне отъезда жена предложила сходить в ее театр, я наотрез отказался. Не хотелось встречаться ни с недругами, которые принюхивались ко мне, ни с друзьями, которые чурались меня.
Мы пошли в цирк. Взяли места подальше от ярко освещенной арены. Рыжие веселили публику, по мне было не очень весело. Вспомнил почему-то Митю Шмидта, в молодости мечтавшего стать клоуном и вызывать у людей смех, а не слезы.
Кончилось первое отделение. Зажглись мощные юпитеры. Я поднял глаза и... как раз против нас в правительственной, обитой красным бархатом, ложе увидел бледное, аскетическое, насупленное лицо Постышева. У него, как и у Шмидта, было пристрастие к цирковому искусству. Позади пепельного ежика секретаря ЦК столпились работники НКВД. Среди них мощными плечами и рыжей головой выделялся начоперод Соколов-Шостак. Что? Оберегали жизнь того, на кого, судя по сообщениям газет, коварные террористы точили ножи?.. Нет! Так караулят важного пленника! Но вряд ли Постышев предугадывал тогда, что он пленник, а Соколов, лебезящий перед ним, возглавляет его бдительный конвой.
Вот не пошел в оперу, а здесь, в цирке, увидел тех, с ком меньше всего хотел встретиться. Я решил сразу же покинуть цирк, а жене захотелось посмотреть второе отделение. Мы вышли в фойе. Стали в сторонке, где меньше всего толпился народ. Но что это? Тяжело переваливаясь грузным телом, прямо к нам шел Соколов-Шостак.
С вкрадчивой, иезуитской улыбочкой на сытом лице протянул руку.
— Вы не в Казани? А здесь слухом земля полнится, что вы уже трудитесь там.
— Слухи верные! — ответил я. — Завтра отбываем.
И действительно, из Москвы пришло сообщение, что приказ подписан наркомом. У нас все уже было готово к отъезду.
— Ну, желаю счастливого пути! — И снова рукопожатие с лицемерной усмешкой на лице.
Соколов-Шостак отчалил. Но удивительно, как это он безошибочно устремился в тот уголок фойе, где мы находились. Око видит, ухо слышит! И его демарш следовало расценивать так: «Знай, друг Шмидта, если ты и в самом деле держишь камень за пазухой, то тот, кому это полагается, всегда начеку!»