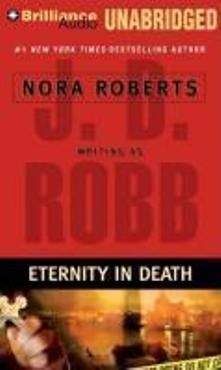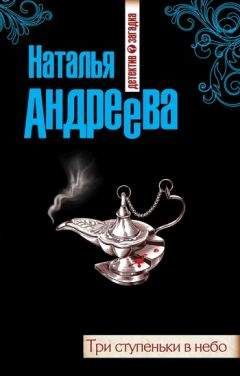Елена Боннэр - Постскриптум: Книга о горьковской ссылке
12-го меня положили в больницу. А вершить доктора это будут тринадцатого. Все-таки у меня удивительное отношение к приметам. Когда вечером 12-го я подписывала анестезиологу, потом кардиологу, потом хирургу свое «быть или не быть», я вспоминала Се вино «бросимся в плаванье, мальчики» — если кто-нибудь теперь найдет и прочитает книжку Всеволода Багрицкого (я о ней третий раз вспоминаю на страницах этих записок), уже хорошо. Доктор Эйкинс сказал: считайте, что одного дня у вас в жизни не будет, — или он сказал это как-то помягче, но поняла я так. Кто переводил — Таня или Алеша? Не помню. И вот ребята ушли. Больничный вечер. Я приняла душ. Пришли две медсестры, бросили на пол голубое, как вода в том океане, который был, когда еще ничего на свете не было, полотенце. Поставили на него, сняв с меня все до самой последней ниточки. Мне вдруг стало страшно. Заныло где-то внутри, засосало, захотелось плакать и сказать: «Прощайте, любимые». «Прощай, лазурь…» (Б. Пастернак). Меня вдруг пробрала дрожь от холода и ужаса. А медсестры, тихо смеясь и что-то говоря друг другу, начали меня брить — не подмышки или грудь, я понимала, что грудь будут резать и что операционное поле надо побрить. Меня брили всю — от кромки волос на голове и дальше: шею, грудь, бока, спину, живот, ноги, верхние поверхности стоп, плечи, предплечья, кисть: я вся становилась одним сплошным операционным полем или жертвой — священной жертвой для заклания. Моя дрожь мешала сестрам, но они справились и стали меня обильно поливать из больших бутылок (не из аптечных пузыречков) йодом или чем-то йодистым и растирать это что-то полотенцем. Наверно, кожу очень саднило, наверно, щипало, они обмахивали меня полотенцем, как веером, но я не очень это чувствовала. Я продолжала быть в ужасе. А меня всунули в стерильно-голубое, уложили, что-то дали выпить. Я спросила, который час. «Без двадцати одиннадцать», — провалилось куда-то в моем сознании. Меня поразил мой голос, когда я задала вопрос. Я уходила в небытие, и голос был, как старая история…
…Я накачивала примус под автоклавом — кто теперь знает, что так стерилизовали перевязочный материал? В узкий просвет двери я видела низкое октябрьское небо. Я услышала, как они летят. Это было странно, что в такую плохую погоду. Их было два. Они летели низко и скрылись из поля зрения. А я увидела ее, она падала, и я видела, что ее чуть сносит ко мне, она была большая. Я уже ничего не слышала — ни ее, ни самолетов, но ощутила влагу на своем лице: шел мокрый снег, его бросило в меня. Больше ничего не было. Долго? Я не знаю.
…Потом прямо надо мной появились звезды и небо. Оно было морозным, цвета синего мороза, и я не знала, жива или уже нет. Потом я почувствовала свои руки, особенно левую, в ней была боль. А вот ног не чувствовала и подумала: «Как же я буду танцевать?» — и услышала голос: «Пожалуйста, не умирай». Кто это говорил? Я? Разве это был мой голос? Дальше я все знаю по рассказам. Меня услышали, нашли, раскопали. Значит, меня уже когда-то не было. Почти сутки. На полустанке Валя, недалеко от станции Ефимовская. С утра 26-го до рассвета 27 октября 1941 года.
Возвращаться в жизнь было очень трудно. Мне кажется, что я слышала смутно голос Тани, потом Ремы и Лизы.
Может, этого не было? может, это их рассказы наслоились? Нет, все-таки было. Но ощущение, что я нахожусь в жизни, а не Там, — пришло позже: Алешкин голос, Алешкино «Мама». Потом опять был провал. Потом снова: «Мама, ты слышишь меня? Мама, пожми мне руку». Я слышала, и мне кажется, что я жала, только у меня не было ощущения его руки. Потом я снова услышала его голос и даже ощутила запах, как будто он только что покурил. Потом опять пустота и чужой женский голос — английский язык. Я понимаю, что операция прошла, что шесть шунтов (почему шесть? — говорили про три, самое большее четыре). Я слышу свое дыхание — или это не мое? — машина гонит в меня воздух, дышит за меня. Другая стучит за мое сердце.
Я ощущаю тепло Алешкиной руки и разницу между его и моей температурой. А у меня страх — это он болен, он маленький и больной, и у него горячая ручка, но почему запах табака? — я тогда не курила. Путаница какая. Может, это все сон или небыль. И снова: «Мама, пожми мне руку». Я жму. Алеша говорит по-английски: «Она меня слышит».
— Слышу, слышу. — Я хочу сказать, хочу крикнуть и — не могу. Так я вернулась в жизнь. Опять ранним утром, опять на рассвете — 14 января 1986 года. Странный повтор. Как будто тот возврат в жизнь в 1941 году был только репетицией.
Потом меня отключили от машины, и я произнесла первые слова. Потом отключили от монитора, потом отвозили в палату — это все уже была медицина, хорошая, но медицина, а до этого было нечто другое. Я знаю, что оно было запредельным, это «Существование» или «Несуществование», это между «Здесь» и «Там». Я ушла из него, и пошла послеоперационная рутина, мучительные ночи, мучительные дни, когда после первого улучшения начался перикардит и плеврит, постоянные боли — Господи, ну все кости перерезаны, переломаны — ни лежать, ни сидеть, ни ходить, и нога болит, и рука левая — плечо так, что хоть криком кричи, — и то, и это, и пятое, и десятое. Мне кажется, такой больной, такой бессильной справиться со всем этим я не была никогда.
И не знаешь, надо ли было идти на все это — может, лучше бы остаться без такого крутого лечения. Я ведь до сих пор думаю: а имеем ли мы право так вторгаться в собственную жизнь? И вообще после всего перенесенного возникает мысль-вопрос: «А может, это и не я» (А. Ахматова). Наверно, я так и не разрешила бы свои сомнения — о праве на такую операцию, на такое лечение, несмотря на то, что уже смогла сесть за работу, смогла настучать на машинке эти страницы, — но меня пустили в операционный блок Масс-Дженерал.
Не видать бы мне этого как своих ушей, не будь я врач, не имей расположения главного анестезиолога да того, что доктор Хаттер сам меня туда повел. Вход совсем не свободен — прямо как в крепость или в Пентагон, — в книгу записали, спросили, откуда я (написали: Россия), расписаться заставили. Пропустили. Еще пока только в раздевалку. Там переоделась и пошла. От всех моих сомнений многонедельных: «Имеет ли человек право на такую операцию?»— я стала волноваться еще раньше, с утра, а к этому времени меня стала пробирать легонькая дрожь. Я вспомнила, что несколько дней назад, когда я договаривалась об этом посещении, доктор Хаттер спросил: «А в обморок не упадете?» Я тогда даже оскорбилась: «Это я-то?» — до того, как стала врачом, столько лет медсестра, и вдруг такой вопрос. Но сейчас я сама задала себе тот же. И ответила на него тоже сама: «Ну, держись». Чего я ожидала?
Я ожидала чего-то вроде воплощенного в реальной картине своего сомнения, своего вопроса, а пришла в нормальную работу — люди трудились. Конечно, эта работа была, что называется, высшего класса — высший пилотаж, но работа, а не Вопрос, да еще с большой буквы. Мне было очень интересно, и не было никаких волнующих ощущений, кроме: здорово работают. Конечно, здорово! Стоит только поглядеть расписание: 60 операций в один день — четверг 6 мая 1986 года. Работа идет в сорока комнатах. У некоторых врачей две, а то и три операции в день. Доктор Эйкинс — три операции. Сейчас он стоял над раскрытой грудной клеткой: разрез посередине, края раздвинуты и закреплены, сердце, открытое всему — глазу, рукам, ветру. Но до чего же точное название операции — «открытое сердце», — так точно, что ни прибавить, ни отнять. Оно билось ровно — то сердце, на которое я смотрела, и на котором вершил свою чудесную и чудовищную работу хирург. От каждого толчка уровень крови в сердечной сумке то поднимался, то падал. Потом к большим сосудам присоединили прозрачные пластиковые трубки: они заполнились кровью, даже по виду стали тяжелей, и через полкомнаты машина стала гнать по этим трубам кровь. Большой круг кровообращения и малый круг вышли из оболочки тела, но функционировали, как им и положено, а сердце посветлело и остановилось.