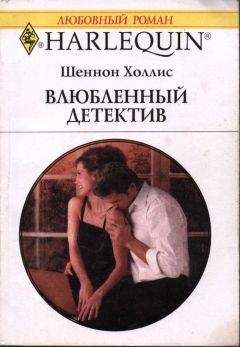Георгий Чулков - Императоры. Психологические портреты
Внутри государства в самом деле все было безрадостно. Александр знал, что даже при Павле не было такого лихоимства и казнокрадства, как теперь; он знал, что крепостные мрачно и нетерпеливо ждут обещанной в 1812 году свободы; он знал, что дело просвещения, руководимое А. Н. Голицыным, запутано безнадежно, что такие люди, как Магницкие и Руничи, как будто нарочно уродуют идею, какая представлялась ему высокой и светлой… Честный Паррот, этот смешной дерптский энтузиаст, прав, когда он пишет императору откровенно о безобразиях официальной — науки…
Александр все это видит и понимает, но нет уже воли, чтобы предпринимать что-нибудь. Да и возможно ли сделать что-нибудь теперь? Не поздно ли? Нетерпеливые заговорщики уже готовят свой план преобразования России. Им кажется, что дело свободы — очень простое дело. И Александру тоже казалось лет двадцать тому назад, что стоит лишь объявить о свободах, равенствах и всяких братствах — и на земле настанет райское житье. Но теперь он сомневается в этом. А разве можно что-нибудь делать удачно и хорошо, ежели сомневаешься?
Слава, которая окружает его имя как умиротворителя Европы, теперь не утешает Александра. Разве не пришел он к ужасному противоречию с самим собою, отвергнув притязания греков? Разве цельность Священного союза не потерпела какого-то нравственного ущерба в этом деле, несмотря на всю эту сложную диалектику Меттерниха? В мировой политике есть что-то неблагополучное.
А личная жизнь Александра? В декабре 1818 года умерла подруга молодости, сестра Екатерина Павловна, которая умела быть такою нежною, а в решительные минуты такою непримиримой и настойчивой. А теперь умерла и милая восемнадцатилетняя Софи, единственная дочь императора. Пусть ее мать, эта обольстительная полька, обманувшая сначала Нарышкина, а потом и самого Александра Павловича Романова, безнадежно порочна и преступна, но ведь ее дочь невинна. Было так отрадно смотреть в ее чистые глаза. Эти две, ушедшие из нашего мира, как будто зовут его за собой.
А религиозные сомнения, которые терзают императора? В 1812 году, незадолго до вторжения Наполеона в Россию, впервые прочитав Библию, он думал, что обрел истину. Но прошло десять лет, и то, что казалось простым и ясным, опять стало сложным и трудным.
Недавно, переодеваясь, Александр долго смотрел на свои огрубевшие колени с большими мозолями — знаки, оставшиеся навсегда от долгих молитвенных стояний перед аналоем. Он сам старался уверить себя, что молитва дает ему неизъяснимое блаженство. Но даже это утешение отнял у него один странный человек, который посеял в душе императора сомнение в чистоте его молитвы. Александр думал, что всякая вера сама по себе уже доброе приближение к истине. Зачем какие-то догматы, вероисповедания, обряды? Пусть каждый молится, как ему нравится. Важно соединиться в духе с первопричиной бытия. Эта и есть та "внутренняя церковь", о которой говорит убедительно маленький князь Голицын. Татаринова молится по-своему. Ее душа бывает в экстазе, когда она со своими единоверцами, надев белые балахоны, кружится до изнеможения. Разве в этом есть что-нибудь худое? А госпожа Крюднер? А князь Гогенлоэ? А скромный и благочестивый Фридрих-Вильгельм прусский? А трогательные квакеры? Они все молятся по-разному, каждый на свой лад. Но скоро наступит время, когда не будет более никаких разделений, ибо Бог один и он вовсе не требует никаких посредников между собой и человеком… Но вот летом 1822 года пришел этот странный человек, говорил с Александром, и теперь у несчастного императора нет уже прежней уверенности, что надо молиться так, как советует маленький князь. Кто же этот человек? Это — монах Фотий. О нем говорил Александру тот самый Голицын, который теперь не внушает императору прежнего доверия. Он ему рассказывал про этого монаха удивительные вещи. Этот Фотий — великий подвижник. На нем вериги и власяница. У него бывают видения. Он слышит голоса. Он предсказывает грядущее. Кроме того, он духовно просвещен. Образованный Филарет Дроздов уважает этого монаха.
Фотию была дана аудиенция. Он явился к царю как равный ему или даже как старший, хотя и по возрасту, он был значительно моложе Александра, да и по своему скромному положению не мог, казалось бы, рассчитывать на особое внимание "благочестивого' монарха". Когда Фотий вошел в царский кабинет, Александр встал и хотел подойти под благословение, но монах, как будто не замечая императора, поворачивался во все стороны, ища образа. Отыскав, помолился и только тогда удостоил Александра своего благословения.
Этот маленький, худощавый, бледный монашек, запостившийся, должно быть, с клобуком, надвинутым на брови, из-под коих зорко глядели голубовато-серые глаза, поразил почему-то воображение Александра.
Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская крепко верит, что сам Бог предназначил этого монаха обличать мирскую неправду. У него дар видеть козни, предуготованные диаволом. А ведь это так важно. Александр нередко сам не знает, где истина и где ложь. Разве в молодости не принимал он за добро то, что на самом деле сущее зло. Все эти госпожи Крюднер, Татариновы и прочие экзальтированные особы — разве они в конце концов не так же слепы, как и он, Александр? У них, правда, на все есть объяснение. Они очень точно и складно сообщают о тайнах мироздания, но эта прозаическая точность как-то подозрительна, и не хочется верить, что Господь Бог открыл той или другой даме свои божественные замыслы. Кроме того, ангел в Апокалипсисе требует от человека или пламени, все испепеляющего, или небесного ледяного холода. А все эти мистики не холодны и не горячи, и речь их похожа на приторный теплый сироп.
И какой странный полуславянский язык у этого монаха. Александр сказал:
— Я давно желал тебя, отец Фотий, видеть и принять благословение.
Монах помолчал, как будто прислушиваясь. Клобук еще ниже надвинулся на глаза, и Фотий вдруг стал похож на мохнатого медвежонка, который смотрит исподлобья. Глазки засверкали.
— Яко же ты хощешь принять благословение от меня, служителя святого алтаря, то, благословляя тебя, глаголю: мир тебе, царю, спасися, радуйся, Господь с тобою буди.
Они теперь сидели друг против друга совсем близко, так что колени их касались.
Слова этого Фотия были какие-то необыкновенные, все как будто шершавые, пернатые. Они не пропадали бесследно, а запоминались невольно. Было в них что-то грубое и корявое, совсем не похожее на сладкую и круглую французскую речь хотя бы той же мадам Крюднер.
Слыхал ли про нее Фотий?
Да, он слыхал про нее. Ему даже открыто, кто она такая.
— Женка сия, в разгоряченности ума и сердца, от беса вдыхаемой, не говорит никому противного от похоти и плоти обычаям мира и делам вражиим. Посему она и нравиться умеет всем во всем, начиная с первых столбовых боляр. Мужи, жены, девицы спешат, как оракула некоего дивного, послушать женку Крюднер.