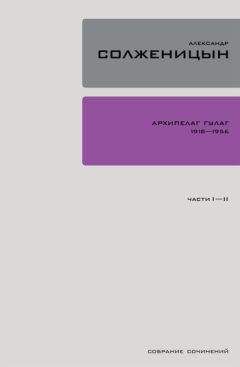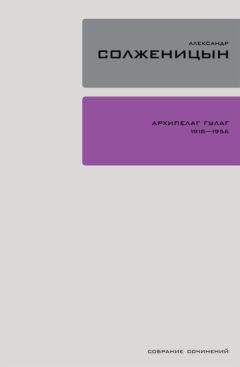Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 3
Если мне могут теперь указать побеги русских революционеров ХIХ или ХХ века с такими трудностями, с таким отсутствием поддержки извне, с таким враждебным отношением среды, с такой беззаконной карой пойманных, — пусть назовут!
И после этого пусть говорят, что мы — не боролись.
Глава 9
Сынки с автоматами
Охраняли в долгих шинелях с чёрными обшлагами. Охраняли красноармейцы. Охраняли самоохранники. Охраняли запасники-старики. Наконец пришли молодые ядрёные мальчики, рождённые в первую пятилетку, не видавшие войны, взяли новенькие автоматы — и пошли нас охранять.
Каждый день два раза по часу мы бредём, соединённые молчаливой смертной связью: любой из них волен убить любого из нас. Каждое утро мы — по дороге, они — по задороге, вяло бредём, куда не нужно ни им, ни нам. Каждый вечер бодро спешим: мы — в свой загон, они — в свой. И так как дома настоящего у нас нет, — загоны эти служат нам домами.
Мы идём и совсем не смотрим на их полушубки, на их автоматы, — зачем они нам? Они идут и всё время смотрят на чёрные наши ряды. Им по уставу надо всё время смотреть на нас, им так приказано, в этом их служба. Они должны пресечь выстрелом наше каждое движение и шаг.
Какими кажемся мы им, в наших чёрных бушлатах, в наших серых шапках сталинского меха, в наших уродливых, третьего срока, четырежды подшитых валенках, — и все обляпанные латками номеров, как не могут же поступить с подлинными людьми?
Удивляться ли, что вид наш вызывает гадливость? — ведь он так и рассчитан, наш вид. Вольные жители посёлка, особенно школьники и учительницы, со страхом косятся с тротуарных тропинок на наши колонны, ведомые по широкой улице. Передают: они очень боятся, что мы, исчадия фашизма, вдруг бросимся врассыпную, сомнём конвой, — и ринемся грабить, насиловать, жечь, убивать. Ведь наверно такие только желания доступны столь звероподобным существам. И вот от этих зверей охраняет жителей посёлка — конвой. Благородный конвой. В клубе, построенном нами, вполне может чувствовать себя рыцарем сержант конвоя, предлагая учительнице потанцевать.
Эти сынки всё время смотрят на нас — и из оцепления, и с вышек, но ничего им не дано знать о нас, а только право дано: стрелять без предупреждения.
О, если бы по вечерам они приходили к нам, в наши бараки, садились бы на наши вагонки и слушали: за что вот этот сел старик, за что вот этот папаша. Опустели бы эти вышки и не стреляли бы эти автоматы.
Но вся хитрость и сила системы в том, что смертная наша связь основана на неведении. Их сочувствие к нам карается как измена родине, их желание с нами поговорить — как нарушение священной присяги. И зачем говорить с нами, когда придёт политрук в час, назначенный по графику, и проведёт с ними беседу, — о политическом и моральном лице охраняемых врагов народа. Он подробно и с повторениями разъяснит, насколько эти чучела вредны и тяготят государство. (Тем заманчивее проверить их как живую мишень.) Он принесёт под мышкой какие-то папки и скажет, что в спецчасти лагеря ему дали на один вечер дела. Он прочтёт оттуда машинописные бумажки о злодеяниях, за которые мало всех печей Освенцима, — и припишет их тому электрику, который чинил свет на столбе, или тому столяру, у которого рядовые товарищи такие-то неосторожно хотели заказать тумбочку.
Политрук не собьётся, не оговорится. Он никогда не расскажет мальчикам, что люди тут сидят и просто за веру в Бога, и просто за жажду правды, и просто за любовь к справедливости. И ещё — ни за что вообще.
Вся сила системы в том, что нельзя человеку просто говорить с человеком, а только через офицера и политрука.
Вся сила этих мальчиков — в их незнании.
Вся сила лагерей — в этих мальчиках. Краснопогонниках. Убийцах с вышек и ловцах беглецов.
Вот одна такая политбеседа по воспоминаниям тогдашнего конвоира (Ныроблаг): "Лейтенант Самутин — узкоплечий, долговязый, голова приплюснутая с висков. Напоминает змею. Белый, почти безбровый. Знаем, что прежде он самолично расстреливал. Сейчас на политзанятиях читает монотонно: "Враги народа, которых вы охраняете, — это те же фашисты, нечисть. Мы осуществляем силу и карающий меч Родины и должны быть твёрдыми. Никаких сантиментов, никакой жалости".
И вот так-то формируются мальчики, которые упавшего беглеца стараются бить ногой непременно в голову. Те, кто у седого старика в наручниках выбивают ногою хлеб изо рта. Те, кто равнодушно смотрят, как бьётся закованный беглец о занозистые доски кузова, — ему лицо кровянит, ему голову разбивает, они смотрят равнодушно. Ведь они — карающий меч Родины.
Уже после смерти Сталина, уже вечно-ссыльный, я лежал в обычной «вольной» ташкентской клинике. Вдруг слышу: молодой узбек, больной, рассказывает соседям о своей службе в армии. Их часть охраняла палачей и зверей. Узбек признался, что конвоиры тоже были не вполне сыты, и их зло брало, что заключённые, как шахтёры, получают пайку (это за 120 %, конечно), немного лишь меньшую их честной солдатской. И ещё их злило, что им, конвоирам, приходится на вышках мёрзнуть зимой (правда в тулупах до пят), а враги народа, войдя в рабочую зону, будто на весь день рассыпаются по обогревалкам (он и с вышки мог бы видеть, что это не так) и там целый день спят (он серьёзно представлял, что государство благодетельствует своих врагов).
Интересный вышел случай! — посмотреть на Особлаг глазами конвоира. Я стал спрашивать, что ж это были за гады и разговаривал ли с ними мой узбек лично. И вот тут он мне рассказал, что всё узнал от политруков, что даже «дела» им зачитывали на политбеседах. И эта неразборчивая его злоба, что заключённые целый день спят, тоже конечно утвердилась в нём не без того, чтобы офицеры кивали согласительно.
О, вы, соблазнившие малых сих!.. Лучше бы вам и не родиться!..
Рассказал узбек и о том, что рядовой солдат МВД получает 230 рублей в месяц (в 12 раз больше, чем армейский! откуда такая щедрость? может быть, служба его в 12 раз трудней?), а в Заполярьи даже и 400 рублей, — это на срочной службе и на всём готовом.
И ещё рассказывал случаи разные. Например, товарищ его шёл в оцеплении и померещилось ему, что из колонны кто-то хочет выбежать. Он нажал спуск и одной очередью убил пятерых заключённых. Так как потом все конвоиры показали, что колонна шла спокойно, то солдат понёс строгое наказание: за пять смертей дали ему пятнадцать суток ареста (на тёплой гауптвахте, конечно).
А уж этих-то случаев кто не знает, кто не расскажет из туземцев Архипелага!.. Сколько мы знали их в ИТЛ: на работах, где зоны нет, а есть невидимая черта оцепления, — раздаётся выстрел, и заключённый падает мёртв: он переступил черту, говорят. Может быть вовсе не переступил, — ведь линия невидимая, а никто второй не подойдёт сейчас её проверить, чтобы не лечь рядом. И комиссия тоже не придёт проверять, где лежат ноги убитого. А может быть он и переступил, — ведь это конвоир может следить за невидимой чертой, а заключённый работает. Тот-то зэк и получает эту пулю, кто увлечённей и честней работает. На станции Новочунка (Озёрлаг) на сенокосе — видит в двух-трёх шагах ещё сенцо, а сердце хозяйское, дай подгребу в копёнку, — пуля! И солдату — месяц отпуска.