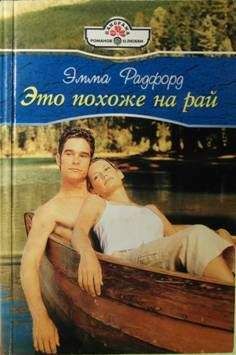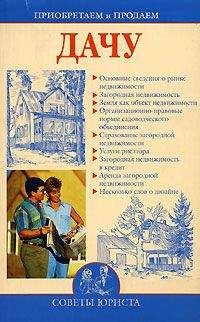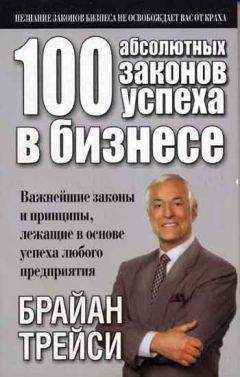Софья Толстая - Мой муж Лев Толстой
Но сегодня всю ночь он горел, метался, стонал, не спал. При нем был доктор Никитин и я. Клали на живот компресс с камфарным спиртом из воды, ставили клизмы – ничто не облегчало. К утру опять температура 39, мучительная тоска, слабые, жалкие глаза, эти милые, любимые, умные глаза, которые смотрят на меня страдальчески, а я ничем не могу помочь.
Мучительно преследует меня мысль, что Бог не захотел продлить его жизнь за ту легенду о дьяволах, которую он написал.
8 декабряТемпература стала низкая, обильный пот разрешил болезнь, но осталась слабость сердца, и еще страх у всех докторов – воспаления в легких, которое может произойти от бактерий инфлуэнцы, определенной докторами.
Приехали сегодня утром милые и бескорыстные доктора, всегда веселые, бодрые, ласковые: сердечный Пав. Серг. Усов и бодрый Влад. Андр. Щуровский. Ночевал тульский доктор Чекан, и очень старался и умно действовал наш домашний врач – Никитин.
Вчера приехали сыновья: Сережа и Андрюша с женой, сегодня Илья. Еще приехала Лиза Оболенская, а сегодня Пав. Алекс. Буланже.
До пяти часов утра за Львом Николаевичем ходила я, потом Сережа. Доктора тоже сменялись: сначала Никитин, потом Чекан.
Сегодня у меня нехорошее чувство сожаления о даром тратившихся силах на уход за Львом Николаевичем. Сколько внимания, любви, сердца, времени кладешь, чтоб всякую минуту жизни следить за тем, чтоб сохранить ее Льву Николаевичу. И вот, как 4-го, на мои ласковые заботы я встретила суровый протест, точно назло, – какой-то страх, что лишают его свободы, – и вот опять даром потраченные силы и еще шаг к смерти. Зачем? Если б он ее желал, а то нет, он ее не приветствует и не хочет. И нехорошо его настроение, мне грустно – но оно не духовно.
12 декабряСейчас шесть часов утра 12 декабря. Опять я просидела всю ночь у постели Левочки, и я вижу, что он уходит из жизни. Пульс частый, 120 ударов в минуту и больше, неровный… Странная болезнь: боль преимущественно в правом боку, а главное газы, отрыжки, отрыжки без конца. Только ляжет, задремлет – точно его что снизу в желудок подтолкнет, он проснется, и начинается отрыжка, мучительная, непрерывная. Ляжет, полежит, опять то же; сядет и мучается, рыгает, стонет… Ах, какой он жалкий, когда он сидит, понуря свою седую, похудевшую голову, и думаешь – все равны перед страданием, смертью. А весь мир поклоняется этой жалкой голове, которую я держу в своих руках и целую, прощаясь с тем, кто для меня был гораздо больше, чем я сама.
И вот наступит безотрадная жизнь, не к кому будет, как теперь, спешить утром, когда проснешься, наденешь халат и бежишь узнать, что и как? Хорошо ли спал, прошелся ли, в каком настроении? И всегда как будто он рад, что я вошла, и спросит обо мне, и продолжает что-то писать.
Успокоишься и идешь к своим занятиям…
Сегодня сказал в первый раз с такой искренней тоской: «Вот уж искренно могу сказать, что желал бы умереть». – Я говорю: «Отчего? устал и надоело страдать?» – «Да, все надоело!»
Не спится… Не живется… Длинные ночи без сна, с мучительной болью в сердце, с страхом перед жизнью и с неохотой оставаться жить без Левочки. Сорок лет жили вместе! Почти вся моя жизнь сознательная. Не позволяю себе ни раскаиваться, ни сожалеть о чем бы то ни было, а то с ума можно сойти!..
Когда я сейчас уходила, он мне так отчетливо и значительно сказал: «Прощай, Соня». Я поцеловала его и его руку и тоже ему сказала: «Прощай». Он думает, что можно спать, когда он умирает… Нет, он ничего не думает, он все понимает, и ему тяжело…
Дай Бог ему просветлеть душой… Сегодня он лучше, спокойнее и, видно, думает больше о смерти, чем о жизни…
13 декабря, вечерНо к жизни опять вернулся Левочка. Ему лучше; и пульс, и температура, и аппетит, все понемногу устанавливается. Надолго ли? Буланже читал ему вслух «Записки» Кропоткина.
Сегодня в «Русских Ведомостях» следующее заявление Льва Николаевича:
«Мы получили от графа Льва Николаевича Толстого следующее письмо:
Милостивый государь,
г. редактор.
По моим годам и перенесенным, оставившим следы, болезням я, очевидно, не могу быть вполне здоров, и естественно, будут повторяться ухудшения моего положения. Думаю, что подробные сведения об этих ухудшениях хотя и могут быть интересны для некоторых, – и то в двух самых противоположных смыслах, – печатание этих сведений мне неприятно. И потому я бы просил редакции газет не печатать сведений о моих болезнях.
Лев Толстой.
Ясная Поляна. 9 декабря 1902 г.»Я вполне понимаю это чувство Льва Николаевича и сама бы не стала о нем извещать, если б не скука и труд отвечать на бесчисленные запросы, письма, телеграммы желающих знать о состоянии здоровья Льва Николаевича.
Сегодня мне нездоровится и постыдно жаль себя. Сколько силы, энергии, здоровья тратится на уход за Л.Н., который из какого-то протеста, задорного упрямства пойдет шесть верст зимой по снегу или объестся сырниками и потом страдает и мучает всех нас!..
Сегодня в Москве второй концерт Никиша – это была моя самая счастливая мечта быть на этих двух концертах, – и, как всегда, я лишена этого невинного удовольствия, и мне грустно и досадно на судьбу.
Еще меня мучает и мне больно вспоминать мой последний разговор, ровно месяц тому назад, с С.И. Нужно бы разъяснить многое, и нет случая…
18 декабряЛев Николаевич все еще в постели. Он сидит, читает, записывает, но слаб еще очень…
Читала сначала «Ткачей» Гауптмана и думала: все мы, богатые люди, и фабриканты, и помещики, живем в этой исключительной роскоши, и часто я не иду в деревню, чтобы не испытывать той неловкости, даже стыда от своего исключительного, богатого положения и их бедности. И, право, удивляешься еще их кротости и незлобивости относительно нас.
Потом прочла стихотворения А. Хомякова. Много в них все-таки настоящего поэтического, и много чувства. Как хороши: «Заря», «Звезды», «Вдохновение», «К детям», «На сон грядущий»… «К детям» – это прямо вылилось из сердца правдиво и горячо. У кого не было детей, тот не знает этого чувства родителей, особенно матерей.
Войдешь ночью в детскую, стоят три, четыре кроватки, оглянешь их, чувствуешь какую-то полноту, гордость, богатство… Нагнешься над каждой из них, вглядишься в эти невинные, прелестные личики, повеет от них какой-то чистотой, святостью, надеждой. Перекрестишь их рукой или сердцем, помолишься над ними о них же и отойдешь с умиленной душой, и ничего от Бога не просишь – жизнь полна.
И вот все выросли и ушли… И не пустые кроватки наводят грусть, а те разочарованья в судьбе и в свойствах любимых детей, и так долго не хочется их видеть и им верить. И не детей просишь молиться о себе, а опять молишься за них, за просветленье их душ, за внутреннее их счастье.