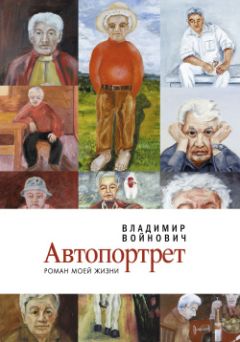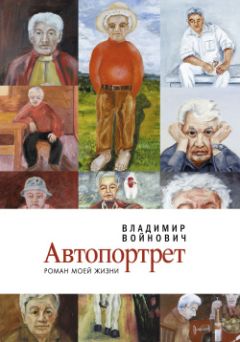Павел Басинский - Лев в тени Льва. История любви и ненависти
В «Опыте моей жизни» Лев Львович откровенно признавался, что при всей любви к семье он, по сути, бежал от нее в 1895 году в Финляндию. Семья Толстых в это время представляла из себя узел нераспутываемых проблем. В этом узле он, Лев Львович, оказывался лишь одной из ниточек. Он со своей несчастной болезнью нуждался в строгом уходе и мудрой заботе, а вместо этого сам, как самый старший из сыновей, оставшийся в доме, вынужден был входить в положение семьи. Сочувствовать матери, потерявшей Ванечку, учить уму-разуму младших братьев, с которыми не справлялись отец и мать, переживать из-за романов сестер и сострадать отцу в его тяжелых духовных исканиях.
Уезжая в Финляндию, Лёва решал сразу два вопроса. Он избавлял мать и отца от своего присутствия, от депрессивного вида и невыносимого характера человека, непрерывно озабоченного своими «кишками». И сам избавлялся от семейных проблем.
Прибыв в финский городок Ганге, он быстро отпустил Андрея домой, потому что толку от него не было никакого. А вот молодой слуга Иван, позаимствованный Толстыми из имения Раевских, пришелся ему по душе. Иван был расторопен и стряпать умел не хуже кухарки. Кроме того, он забавлял барина своим поведением. В первый же день приезда, впервые оказавшись на море, он напился морской воды, и у него прихватило желудок. Но объяснение, что морскую воду не пьют, Ивана не устроило. «Нет, ваше сиятельство, это не от воды, а климат превращает», – важно сказал он. Вечером он отправился гулять по городу с финской молодежью, хвастал Россией, за что был побит и назван «хвастливым сатаной».
Вообще этот Иван, мелькнувший в воспоминаниях Льва Львовича как незначительный персонаж, представлял из себя интересное явление. Патриотизм уживался в нем со смердяковщиной. «Мнения его были самые решительные», – вспоминал Лев Львович. Как-то он спросил слугу, что тот думает о русском народе. «Безусловно, дикий народ, ваше сиятельство», – заявил тот.
Именно Иван оказался последним звеном, связующим больного Льва Львовича с родиной. Расставаясь с ним уже в Швеции, он внезапно понял, что расстается-то он… с Россией. С Россией в самом себе… как болезнью. Любопытно, что на изгнании Ивана настоял шведский врач Вестерлунд, взявшийся лечить Льва Львовича в Энчёпинге. Это было одно из его условий – отказ от русского слуги. Вторым обязательным условием было прекращение переписки с родными.
Едва ли в намерения Вестерлунда входило «излечение» пациента от родины. Просто методом его лечения была полная изоляция больного от волновавших его прежде раздражителей. Но сам Лев Львович воспринимал это так: «Вылечил меня доктор Вестерлунд, но помогло ему главное, то, что я отделился от семьи и России и порвал с их влиянием» («Опыт моей жизни»). А в книге «Правда о моем отце», говоря о «безвыходном мировоззрении» отца (тоже символа России, как и крестьянин Иван), от которого он излечился как от болезни, он пишет: «Передо мной открылись новые горизонты жизни, европейская культура, имеющая много изъянов, но всё же, в основе своей, разумная и жизненная».
Таким образом Лев Львович, по собственному ощущению, стал как бы первым «европейцем» в семье. Его братья и сестры редко выезжали за границу. Отец бывал дважды, но в молодости. Софья Андреевна за всю жизнь ни разу не выезжала за пределы родины. И в голове Льва Львовича возник новый внутренний «проект». Он, Лев Толстой-младший, – соединит свою великую фамилию с великой европейской культурой!
Кровь Рюрика
В отличие от Парижа, где Лев Львович впал в смертельную тоску и панику, в Финляндии он почувствовал небольшой, но всё же прилив сил. Огранович не ошибся в климате, и морской воздух Ганге подействовал на больного оживляюще, «…я сразу же почувствовал, что попал именно в тот климат и ту обстановку, которые мне были нужны. Ежедневно я выходил на парусах в море на два-три часа, продолжал есть свою гречневую кашу, ходил на далекие прогулки, рано ложился, и силы мои стали постепенно возвращаться», – вспоминает он в «Опыте моей жизни».
10 сентября 1895 года, перед отправкой в Швецию, он пишет из Ганге важное письмо к отцу, в котором еще робко, но уже начинает с ним спорить. Это какой-то новый взгляд Льва Львовича на жизнь, бодрый и «материальный», возникший у него под влиянием финских шведов.
В начале письма он сообщает, что несколько месяцев пребывания в Ганге «ровно ничего не делал», то есть не читал и не писал. «Но несмотря на это узнал гораздо больше, чем если бы прочел тысячу книг. Новое узнал в отношении к миру и людям».
В этом письме он очень хвалит образ жизни шведов. «Прекрасно живут тут люди. Есть настоящие счастливые, каких у нас не видал. Хорошо едят, спят здорово, довольны и всю жизнь благодушествуют. И горе принимают как-то спокойно и радостно».
«И всё это, т. е. очень многое в их характере от климата, – настаивает он. – Климат – это великое дело, и ты напрасно не приписываешь ему значения…»
В предыдущем письме он намекает, что хочет отказаться от вегетарианства, хотя сам, будучи в Москве, приучал к нему младших братьев. И пусть мясо по-прежнему ему «противно, как яд», но «по климату людям здесь трудно быть вегетарианцами».
Глубокий психологический подтекст этих писем будет понятен лишь тому кто представляет себе семейную атмосферу Толстых в 1895 году. В это время семья несчастна. И вот Лев Львович покинул эту несчастливую семью, избавив ее и от толики собственного несчастья. Отправив домой Андрея, он пишет матери: «Мне дорого одиночество». С чужими ему легче, чем со своими.
К тому же эти чужие показались ему роднее русских. Приближаясь на пароходе к Стокгольму, Лев Львович начинает мечтать и фантазировать. Он вспоминает, что в его жилах «течет кровь древнего Рюрика». Это правда, ибо род Толстых по линии князей Волконских соединился с Рюриковичами. Но все-таки пафос его мыслей о возвращении на «историческую родину» избыточен и несколько смешон. Он может быть оправдан только нервным состоянием молодого человека, жаждущего выздоровления.
«Наконец-то, промучившись на свете двадцать пять лет, я вижу настоящую мою древнюю родину. Да-да, именно такими были дома, такими были люди в моем прошлом существовании, именно такой была тогда общая атмосфера жизни, и таким был чистый и мягкий морской воздух, которым я дышал… – пишет он. – Никогда не испытанная глубокая радость зашевелилась в моей душе, и голоса нордических предков заговорили во мне с неожиданной силой…»
«А Россия? – как бы смутно припоминает он. – Ведь я же родился в ней, там, в далекой глухой Ясной Поляне?.. Да, но я отсюда, я принадлежу сюда, и здесь моя истинная родина…»
Память о России становится неприятной.