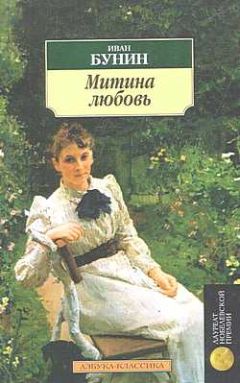«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
– Лошадь! – сказал он. – Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?
Одно из самых приятных литературных воспоминаний – о Мирре Александровне Лохвицкой.
Она умерла еще молодой, по несчастной случайности, и вскоре после смерти (в девятьсот пятом году) была забыта. Но при жизни пользовалась известностью, слыла “русской Сафо” (как, впрочем, многие русские поэтессы). Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем, – муж ее был один из московских французов, по фамилии Жибер, – что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью и высокопарностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью, – все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее родной сестры, Н.А. Тэффи. Такой, по крайней мере, знал ее я, а я знал ее довольно долго, посещал ее дом нередко, был с ней в приятельстве, – мы даже называли друг друга уменьшительными именами, хотя всегда как будто иронически, с шутками друг над другом.
– Миррочка, дорогая, опять лежите?
– Опять. Неизменно.
– А где же ваша лира, тирс, тимпан?
Она заливалась смехом:
– Лира где-то там, не знаю, а тирс и тимпан куда-то затащили дети…
С особенным удовольствием вспоминаю нашу первую встречу. Мы случайно сошлись в редакции “Русской мысли”, – оба принесли туда стихи, – познакомились и вместе оттуда вышли. Помню, все было очень бело, валил крупный снег, впереди ничего не было видно, – только очаровательная белизна. Она тотчас же весело начала:
– Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете?
– Я не про одних мужиков пишу.
– Но все-таки – вы?
– Я.
– Зачем?
– А почему же не писать и про мужиков?
– Ну вот! Пусть себе живут и пашут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже, говорят, платят. Вам сколько платят?
– Рублей семьдесят пять, восемьдесят.
– Боже мой! А за стихи сколько?
– Полтинник.
Она даже приостановилась:
– Как? А почему же мне всего четвертак?
– Не знаю.
– Значит, я хуже вас?
– Помилуй Бог, что вы!
– Но в чем же тогда дело? Вам сколько лет?
– Двадцать четыре.
– Ну тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок…
И все в ней было прелестно – звук голоса, живость речи, блеск веселых глаз, эта милая, легкая шутливость… Она и правда была тогда совсем молоденькая и очень хорошенькая. Особенно прекрасен был цвет ее лица, – матовый, ровный, нежный, подобный цвету крымского яблока. На ней было что-то нарядное, из серого меха, шляпка тоже меховая. И все это было в снегу, в крупных белых хлопьях, которые валили, свежо тая на ее щеках, на губах, на ресницах…
Совершенно забыл, никогда за всю жизнь не вспоминал – и вот вдруг вспомнил: давным-давно, бесконечно давно была в Полтаве лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками толстовского “Посредника”, а над входом висела небольшая вывеска с моим именем: книжный магазин такого-то… Очень странно, но так: у меня был когда-то книжный магазин. Я считал себя тогда толстовцем, но жил все-таки “в миру”, а не в “келье под елью”, как острили мои “мирские” друзья, говоря о толстовцах. Я служил в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я в свободное время, – а свободен я был всегда, – читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав и тому подобном), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что, если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского благого просвещения. Покупателей однако не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки “Посредника” управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, – например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, – я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать “Посредником” по ярмаркам, по базарам, где и был однажды (под Кобеляками) задержан урядником “на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения”, каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся “пострадать”. Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, – я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.
А.М. Жемчужников однажды сказал мне:
– Вот теперь все говорят о новой поэзии, все поэты стараются писать по-новому… Вас, по вашей молодости, это тоже, вероятно, тревожит, искушает. Что ж, тревога полезная. Я ничего не имею против нового, избавь Бог переписывать сто раз написанное. Но вот все-таки позвольте рассказать вам один старинный немецкий анекдот, – может быть, вы его не знаете.
Студент приходит к своему профессору и говорит: “Господин профессор, я хочу создать новое солнце”.
“Что же может быть лучше, мой дорогой друг? – отвечает профессор. – От души радуюсь за вас и желаю вам успеха”.
“Да, но мне, господин профессор, необходимо знать, что именно нужно знать для этого?” – говорит студент.
“О, пустяки! – отвечает профессор. – Прежде всего необходимо изучить солнечные пятна…”
“Пятна? Зачем?”
“А затем, мой друг, чтобы обойтись без них”.
С.Н. Толстой (родной брат Льва Николаевича) говорил, пожимая плечами:
– Не понимаю, что за писатели теперь пошли и как Левочке не совестно печатать вместе с ними свои сочинения!
И начинал перечислять (всюду делая ударение на букву “е”):
– Короленко, Потапенко, Кривенко… Даже есть какой-то Рубахин!
Так он называл Рубакина.
Толстой, как известно, имел привычку делать на полях читаемых книг отметки, иногда писать на них свои суждения, ставить баллы: единица, два, три с минусом и т. д.
Один рассказ, весьма в то время знаменитый, был посвящен ему и касался смертной казни, особенно тогда его волновавшей. Однако он отнесся к рассказу довольно сурово: отчеркнул строк пять в начале и поставил пять, а потом черкнул дальше, вдоль всей страницы, и написал:
“Отсюда пошла ерунда”.
Заглавие пьесы “На дне” принадлежит Андрееву. У Горького заглавие было гораздо хуже: “На дне жизни”. Однажды, выпивши, Андреев говорил мне, усмехаясь, как всегда в подобных случаях, гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами твердо и настойчиво:
– Заглавие – все. Понимаешь? Публику надо бить в лоб и без промаху. Вот Горький написал “На дне”. Показывает мне. Вижу: “На дне жизни”. Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто: “На дне”. И все. Понимаешь? Спас человека. Заглавие штука тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо “Жизнь человека” брякнул: “Человеческая жизнь”? Ерунда была бы. Пошлость. А я написал: “Жизнь человека”. Что, не правду я говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я хитрый на голову. Конечно, хитрый. А вот что ты похвалил мою самую элементарную вещь, “Дни нашей жизни”, никогда тебе не прощу. Почему похвалил? Хотел унизить мои прочие вещи. Но и тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом.