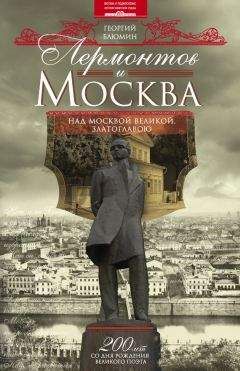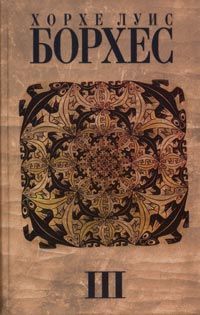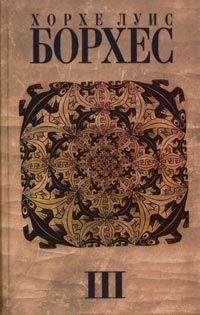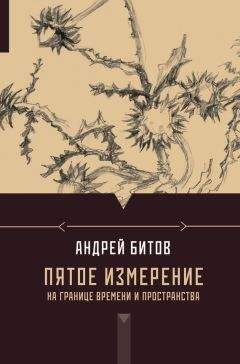Александр Волков - Опасная профессия
Итак, Лисичкин пришел к Зимянину и сказал, что все понимает и сам подаст заявление об уходе. Просит лишь об одном: дать ему квартиру, которую давно ждет. Квартиру он, к счастью, получил и ушел в Институт конкретных социальных исследований. Через некоторое время, примерно через два года, там же оказался и я.
Перед серьезным выбором был поставлен Зимянин. Не знаю точно кто, но кто-то из секретарей, по рассказам Зародова, вызвал Михаила Васильевича в ЦК КПСС. Ему с издевкой заявили: мы собираемся создать министерство кинематографии, не хочешь ли стать министром? Он понял это, естественно, как серьезную угрозу. И вскоре ему представилась возможность повернуть ход событий себе на пользу. Судя по его словам, он был направлен Брежневым в Прагу для того, чтобы лучше оценить обстановку. Но мне представляется, что это было им же и организовано благодаря добрым отношениям с земляком-белоруссом Мазуровым, который тогда под псевдонимом генерал Трофимов действовал в Чехословакии от имени Политбюро ЦК КПСС. Михаил Васильевич поехал туда и привез знаменитые «Две тысячи слов» (заявление видных общественных деятелей страны, их протест против нашего вмешательства в дела суверенной номинально страны). Документ расценивался как антисоветский, антисоциалистический, антикоммунистический. Своими оценками событий Михаил Васильевич заработал значительный политический капитал. В это время он совершил крутой поворот от игры в демократию, в поиск истины, к жестким официальным позициям, потому и стал через некоторое время и Героем социалистического труда, и секретарем ЦК КПСС. Позднее я узнал, что именно он, по крайней мере, дважды воспрепятствовал моему возвращению из Праги в Москву (отклонил предложение о моем переводе в ЦК КПСС, о котором я, кстати, не имел тогда представления, и не одобрил приглашение меня в журнал «Коммунист»). Почему? Могу только гадать…
Подольше других задержался в «Правде» Черниченко. Но в конечном итоге, когда я был уже в Праге, он тоже был вынужден уйти, хлопнув дверью. Позже в связи с его выступлениями в печати, в частности предрекавшими крах «Ростсельмаша» с его комбайном «Дон», секретарь ЦК КПСС Зимянин обвинит его в «очернительстве» и скажет, что у него вот и фамилия такая — Черниченко, от слова чернить. Хорошо, что Михаил Васильевич острил таким образом еще до того, как Генеральным секретарем стал Черненко.
Так приканчивали реформу, чинили своего рода гражданские казни над людьми, которые были ее сторонниками, ее носителями, и конечно, не только в среде журналистов и ученых. Я рассказываю лишь о близких мне людях.
Как-то, уже в начале перестройки, я прочел статью, автор которой — новый главный редактор «Правды» Афанасьев наступил нам на больную мозоль. Он писал примерно так: «Мы, как зачарованные, смотрели тогда на систему централизованного управления, сложившуюся в 30-х годах, но уже не отвечавшую реальным условиям деятельности». Читая это, я думал: при нас все же была другая «Правда». Вы то смотрели, как зачарованные, а другие писали о пороках системы и искали возможности ее изменения. Имею в виду не только правдистов — многие экономисты и журналисты ничем не были зачарованы, уже видели все прекрасно, говорили и писали об этом. Но как же «зачарованные» преследовали нас тогда за это! А сейчас вот «мы», мол, все вместе ответственны за прошлое. Нет, мы были разные — и журналисты, и коммунисты. В КПСС состояли и в «Правде» работали не одноликие оловянные солдатики, отлитые по единой форме. Жаль, что и теперь это не всем ясно.
Сейчас мы уже знаем о рынке много больше, чем тогда — о всех сложностях его организации, трудностях перехода к нему, особенно в стране, прозевавшей технологическую революцию, что сделало ее продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке, о социальных проблемах… Но тогда нам все виделось в несколько идеальном свете: стоит только дать коллективам производителей — заводам, колхозам, любым артелям — большую самостоятельность в организации дела, выборе, что производить, в отношениях с партнерами, и рынок сам начнет отлаживать производство нужной продукции, в нужном количестве и нужного качества. Мы были недальновидны? Нас предостерегали правильно? Не думаю.
Уже в перестроечные времена, встречаясь на международных симпозиумах с учеными из числа левых, с теоретиками компартий и соцпартий, мы неизменно вовлекались в дискуссию на одну и ту же тему: мы говорили о необходимости рынка для своей страны, а они упрекали нас в преувеличении его пользы и недооценке регулирующей роли государства. И однажды, кажется, в беседе с французами, я попытался разобраться в причине такого повторяющегося взаимонепонимания. Причина, говорил я, проста: у вас уже есть рынок, а у нас его нет. Позвольте использовать такой образ: у вас есть бассейн, он заполнен водой, вы заботитесь о том, как регулировать ее обновление, намереваетесь построить вышку для прыжков, чтобы поглубже нырять, стремитесь создать прочие удобства для пловцов. У нас же вышка построена, разложены вокруг бассейна спасательные средства, запасены на случай даже капли от насморка, но… в бассейне нет воды. И мы кричим, убеждаем всех: нальем же скорее воду! Ведь мы уже прыгаем и вот-вот сломаем себе шею!
Мне кажется, что при всей наивности наших представлений о рынке, мы были правы, агитируя за него, потому что говорили о главном для успешного развития экономики. Ведь страна уже ходила в синяках от упражнений в прыжках без воды, и никакие капли от насморка не помогали. Идеология, прежде всего, мешала развитию экономики, и борьба шла по законам идеологии, а не экономической дискуссии.
Нас выбросили из печати, из общественной жизни на много лет. Пятнадцать потерянных лет, о которых говорил в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, это очень много для страны, но 15 лет — еще больше для конкретных людей, для тех, кто вынужден был в самом расцвете сил и способностей уйти в сторону от главных направлений своей деятельности, от своей тематики, отказаться даже от своей профессии.
Лисичкин после нескольких лет работы в институте, где мы оба при внешнем благополучии не могли найти себя, поехал в Молдавию, три года изучал там опыт специализации и кооперации, писал докторскую диссертацию. Ему трижды «рубили» диссертационные работы, причем дважды уже после рассылки реферата — конечно, без каких-либо серьезных оснований, просто по звонку из отдела науки ЦК КПСС, от товарища Трапезникова и других подобных деятелей. Потом с трудом взяли в один московский институт на одну из низших должностей.
Черниченко ушел на телевидение, и хотя он там выдавал прекрасные передачи, сам как-то, иронизируя над собой, рассказал, что получил письмо от одного своего почитателя. Тот собирал много лет все его статьи и прислал их теперь с упреком: на телевидении у тебя и труба пониже, и дым пожиже. Да, для него ведь это тоже было сменой профессии.