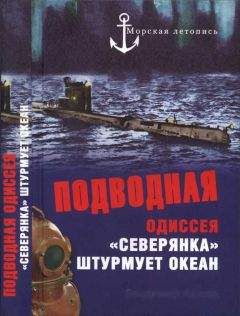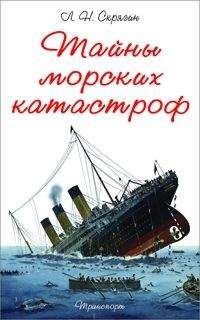Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
Последнее время часто мечтал вслух:
— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот…
* * *Его «Архиерей» прошел незамеченным — не то что «Вишневый сад» с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Мужиков», Художественного театра!
* * *Мы с Найденовым уже были в конце декабря на отлете. Чехов рассказывал мне о своем пребывании в Ницце, о М. М. Ковалевском, о консуле Юрасове, давал советы относительно здоровья и, как всегда, уверял, что я проживу до глубокой старости, так как я «здоровенный мужчина», и опять в который раз уговаривал писать ежедневно, бросить «дилетантство», а нужно относиться к писанию «профессионально»…
И не думал я в те дни, что они — наше последнее свидание.
Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами…
— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну конечно, он с вами не скучал!
Я быстро вставал и прощался.
* * *Перед Рождеством мы с Найденовым уехали за границу.
В Ниццу Чехов прислал мне поздравление с Новым годом, но тон письма был невеселый, он сообщал, что его пьеса еще не шла и неизвестно, когда пойдет, а письмо помечено 8 января. В письме чувствуется нежность, забота, спрашивает, что я ем? рекомендует есть цыплят и голубей, сокрушается, что судака Кольбер там нет. Кончает: «Целую вас и обнимаю», а после подписи: «А у нас сегодня солонина и индейка!»
* * *В день его ангела была премьера «Вишневого сада», театр устроил ему чествование, которое его, конечно, очень утомило. Он не переносил никаких чествований, ненавидел быть центром внимания. Воображаю, сколько пошлостей ему пришлось тогда выслушать.
* * *Началась Японская война. В письмах она у него не отразилась.
Пятнадцатого февраля он уехал опять в Ялту, нарушая запрет Остроумова.
Перед отъездом был с женой в Царицыне, смотрел дачу, чтобы в будущем году там поселиться на всю зиму.
В Ялте он застал брата Александра с семьей. Его племянник, будущий артист, вспоминает это время. Антон Павлович был с ним нежен, подарил «Каштанку» и «Белолобого», дарил мелкие вещицы со своего стола, когда он тихо сидел в его кабинете.
Александр Павлович все время был «трезв, добр, интересен, вообще утешает меня своим поведением», — пишет он своей жене.
* * *Весной Ольга Леонардовна переменила в Москве квартиру, сняла в Леонтьевском переулке, в доме был лифт.
В эту весну 13 апреля он и написал Амфитеатрову из Ялты о моем рассказе «Чернозем», опубликованном в сборнике «Знания».
Третьего мая он в Москве.
Сообщает матери: «Всю дорогу нездоровилось», но в Москве «полегчало».
Рассказывают, что он по приезде в Москву, на другой день, поехал в Сандуновские бани и простудился. В письме к Куприну он сообщает от 5 мая:
«Я приехал в Москву, нездоров!» А 10 мая Гольцеву: «…нездоров, лежу в постели, каждый день ходит доктор…»
В письме к сестре от 21 мая сообщает, что «третьего дня ни с того ни с сего меня хватил плеврит… Как бы то ни было, на 2 июня заказаны билеты в Шварцвальд…»
Меня всегда мучает вопрос, почему его повезли за границу в таком состоянии. Сам он Телешову сказал: «Еду умирать». Значит, понимал свое положение. У меня иногда мелькает мысль, что, может быть, он не хотел, чтобы его семья присутствовала при его смерти, хотел избавить всех своих от тяжелых впечатлений, а потому не возражал. Конечно, порой он надеялся, как большинство чахоточных, что поправится. Замечательно, что сестре он стал из Москвы писать нежнее.
Он и мне в последнем письме, которое не попало в собрание его писем, писал в середине июня, что «чувствую себя недурно, заказал себе белый костюм…».
Четвертого июля 1904 года я поехал верхом в село на почту, взял там газеты и письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула по сердцу.
* * *Смерть его ускорила простуда. После приезда в Москву из Ялты он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости…
Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и которого Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, называл так:
— Погребальные дроги стоймя.
IV
Художественный театр отметил пятидесятилетие со дня рождения Антона Павловича литературным утренником, на котором выступал я со своими воспоминаниями. Это было 17 января 1910 года.
Театр был переполнен. В литерной ложе с правой стороны сидели родные Чехова: мать, сестра, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья, — не помню.
Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антоном Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.
Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали поступить в их труппу.
Вскоре после этого утренника мы были приглашены к Марье Павловне, где были и Чеховы, живущие в Москве, а среди них и сын Александра Павловича, Михаил, молодой ученик школы Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов: они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в прихожей; что-то манипулировали со шляпами так забавно, что мы из столовой, глядя на них, очень смеялись. Кто-то сказал:
— Это совершенно по-чеховски! Новое поколение.
А через несколько лет я видел Мишу в Первой студии Художественного театра в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса «Сверчок на печи», и его игра меня взволновала до слез.
В 1915 году, 14 декабря видел его второй раз в «Потопе»; играл тоже с большим талантом.
Евгения Яковлевна за пять лет очень состарилась. Мы обрадовались друг другу, как родные. Она всегда меня любила. Стала бранить Ялту, с восторгом вспоминать Московскую губернию:
— Здесь лучше, леса, можно по грибы ходить, их тут много, а там что… одно море…
И до чего она была очаровательна в своей наивности.
* * *Ездил я и на открытие «Комнаты имени Антона Павловича Чехова» для туберкулезного литератора в санатории по Николаевской дороге, кажется, вблизи станции Крюково, забыл какого доктора.