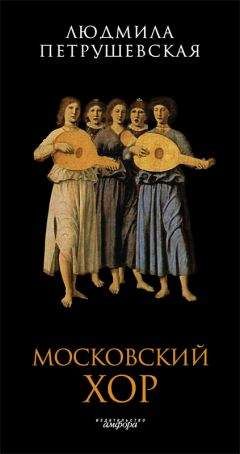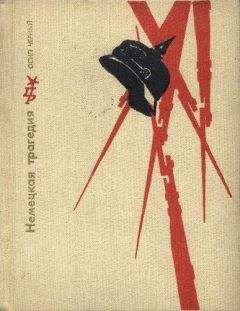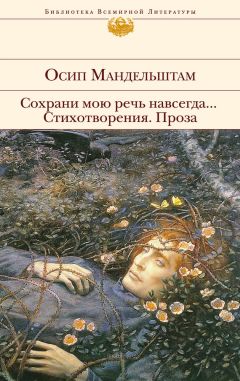Осип Черный - Мусоргский
– Снимем, что же…
Вдруг Корсаков спросил неуверенно:
– А рояль как делить станем?
– Я к двенадцати отправляюсь на службу. С этой минуты рояль, Корсинька, ваш.
– Да и мне, видно, придется уходить… – Он со смущением добавил: – Я, Модя, с военной службы решил уйти.
– Ну и дело, давно пора.
– Меня в консерваторию зовут – профессорствовать.
– Заремба?! Публично нами осмеянный?!
Корсаков продолжал с легкой обидой:
– Во-первых, там теперь не Заремба… Так и думал, что вы осудите это. Вы, наверно, считаете, что я изменил нашему делу, а я не изменил!
Мусоргскому в самом деле стало грустно.
– Как же мы жить будем вместе: вы – ученый профессор, и я – недоучившийся дилетант?
– Оставьте, Модя! Сами хорошо знаете, что я не профессор, а вы не дилетант: одни слова.
Оба, однако, почувствовали: снова меняется жизнь кружка. До сих пор все были единодушны в своем отрицании школярства, а вот теперь Римский-Корсаков как раз начнет сам насаждать школьную премудрость. Еще одна трещина, которой до сих пор не было.
– Может, мне теперь и надо при вас состоять, чтобы удерживать от грехопадения? – заметил Мусоргский невесело.
Римский-Корсаков согласился:
– Вот и давайте, Модя, жить вдвоем.
Сходились они не без опаски.
Мусоргский, безраздельно привязанный к кружку и его идеям, боялся, как бы Римский-Корсаков не перешел в другой лагерь. А Корсаков, хотя и знал, что ничему не изменяет, втайне пришел к выводу, что знаний у него мало и основы настоящей нет. Теперь, когда симфония была сочинена, и «Антар», и многое другое, он решил засесть за будничную учебу. Положение профессора, казалось ему, поможет самому как следует научиться. Самый младший в кружке, Римский-Корсаков редко когда выступал против мнения Балакирева, Стасова и Кюи. Когда при нем ругали Рубинштейна и консерваторцев, он слушал безучастно. Но чем больше Римский-Корсаков накапливал знаний, тем большую потребность испытывал постичь в музыкальном искусстве всё.
У Римского-Корсакова с Мусоргским оказались, таким образом, разные тяготения, но и тот и другой писал оперу, и это их очень сближало. Один создавал второй вариант «Бориса», другой дописывал, не раз возвращаясь к началу, «Псковитянку». Им надо было советоваться, показывать друг другу, даже кое-что друг у друга заимствовать.
Стояла осень. Листья в Летнем саду заметно пожелтели, но солнце в иные дни еще пригревало.
Римский-Корсаков в первый раз явился в штатском, а не в мундире. Он не привык к новой одежде и потому немного стеснялся.
– Вот вы какой, оказывается, в профессорском наряде! – заметил Мусоргский.
– Не надо, Модя, правда…
Прошли по дорожкам, повернули назад, к Инженерному замку, но тут Мусоргский резко повернул в другую сторону. Он не знал, возвращаться ли к Опочининым. Собственная нерешительность мучила его уже много дней.
– Ну, пойдемте искать комнату, – наконец сказал он.
Друзья вышли из сада.
Почему их занесло на Пантелеймоновскую, почему они остановились возле вывески «меблированные комнаты», трудно сказать.
Римский-Корсаков хотел было идти дальше, но Мусоргский предложил:
– Давайте посмотрим, что тут за хоромы.
По темной пологой лестнице поднялись на второй этаж. В коридоре их встретила хозяйка с ключами за поясом.
– Пожалуйте, господа, вам тут понравится, – сказала она.
И в самом деле, когда она привела их в конец коридора, когда впустила в комнату, им показалось, что тут хорошо. Комната была угловая, коридорный шум сюда не доходил; два высоких окна давали сравнительно много света.
Начали примерять, куда всего удобнее поставить рояль. Хозяйка первые минуты молчала, потом тоже стала давать советы:
– Туда если поставить?… Ну, тогда в тот угол.
Когда определили наконец место для рояля, остальное показалось простым. Римский-Корсаков дал задаток. Хозяйка обещала все приготовить к их переезду и даже занавески на окнах вызвалась постирать.
– Ну вот, Моденька, начинается новая наша жизнь, – сказал Римский-Корсаков, когда вышли на улицу.
Мусоргский кивнул; потом, подумав и решив сохранить за собой кой-какие права, сообщил:
– А обедать я буду ходить все-таки к Опочининым.
X
Он и в самом деле продолжал туда ходить, но возвращался расстроенный, и Римский-Корсаков никогда не спрашивал, что с ним происходит. При своей кажущейся общительности, Модест был скрытен и о своем увлечении не рассказывал никому.
Римский-Корсаков также почти не говорил о том, чем мила ему консерватория. К новому делу он отнесся серьезно: обложился учебниками, стал делать разные выписки, без конца решал задачи по гармонии, которые собирался давать ученикам, изучал инструменты оркестра, стараясь до тонкости узнать секреты каждого, и в особенности контрапункт.
О своей работе над оперой они зато говорили друг с другом охотно.
Когда Мусоргский прослушал сцену веча в «Псковитянке», он пришел в восторг:
– Эх, мне бы такую в «Борисе»! И бояре шумят у меня, и царю в глаза народ говорит правду, и за то, что он убийца, корит, а вот так, чтобы прямо бунт, восстание, этого нет. Хорошо вы тут написали, прямо зависть берет!
Сцена под Кромами в ту пору еще не была создана. Мусоргский ходил вокруг да около, не решаясь слишком расширить пушкинский замысел. Но в этом замысле – чем больше он вчитывался в трагедию, тем яснее видел – где-то за сценой угадывалась ярость народная, она выступала как бы сбоку, бросая зловещую тень на события.
В «Истории государства Российского» Карамзина он наткнулся на рассказ о том, как происки иезуитов вызвали бунт. Это как раз приходилось на время, которое описывал Пушкин. И, разгоряченный «вечем» Римского-Корсакова, сам мечтающий о большой, во всю ширь народных страстей, картине, Мусоргский сел писать свою сцену под Кромами.
Писал он быстро, не давая себе передышки. Даже на службу не стал ходить и на некоторое время забросил всё. Наклонясь над столом или гремя на клавишах, Мусоргский создавал то могучее, сокрушающее, что должно было передать стихию крестьянского бунта.
В эти дни даже твердое расписание, установленное друзьями, было нарушено.
– Дай вам бог, Корсинька, здоровья! – говорил Модест. – Я вам за это столько всяких текстов придумаю, столько наших псковских величальных и, каких ни пожелаете, песен напою, что хватит на две «Псковитянки».
Наблюдая этот разгул творчества, это буйство таланта, Римский-Корсаков наслаждался. В иные минуты ему становилось жаль, что все у него в опере так округло и уравновешенно. Хотелось, чтобы, как у Мусоргского, страсти народные вырвались на простор. Римский-Корсаков заглядывал в инструментовку первой редакции и принимался переделывать. Теперь, когда он стал глубже изучать технику творчества, когда проник в прошлое и понял, какой опыт накоплен в творениях стариков, многое подчас представлялось ему в работе Модеста неотшлифованным и не совсем ладным. Но одно поражало: верность замыслу во всем, вплоть до мельчайших деталей. Даже в инструментовке, подчиняя ее основной идее, Мусоргский находил приемы, выражавшие эту идею прямо, сильно и крупно. За изящной плавностью Модест не гонялся. Когда она где-либо получалась сама собой, он радовался ей, как ребенок, но как добиться ее, в общем, не знал. Тут Римский-Корсаков был большим умельцем; в понимании же широты и цельности мысли, в способности создавать сильные и яркие образы он готов был учиться у своего друга.