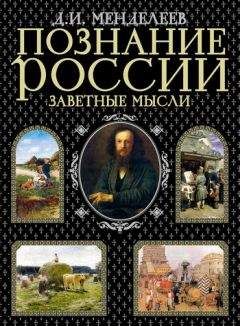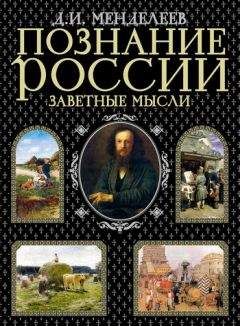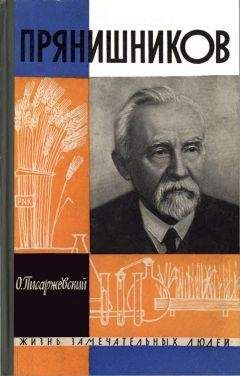О. ПИСАРЖЕВСКИЙ - Дмитрий Иванович Менделеев
В семье Капустиных, в разговорах, чаще всего поминалось одно имя: с благодарностью, с восхищением, с преклонением, с гордостью, с надеждой. Это было имя Дмитрия Ивановича Менделеева.
Анна Ивановна впервые увидела его на университетском акте. Он немного опоздал и появился уже тогда, когда все остальные профессора заняли свои места. Он появился среди лысин, тщательно расчесанных бакенбард, орденских лент простой, скромный, одухотворенный и стремительный. «Он шел скоро, всей фигурой вперед, как бы рассекая волны», – вспоминала она потом свое первое впечатление. «Неужели это ваш дядя?»-наивно спросила она Надю Капустину. Надя ответила: «Да». Девушка смотрела на него и удивлялась, как у него могут быть такие обычные племянники – как у всех… Художественное воображение подсказывало ей образ, который остался в ее воспоминаниях: «олень, вбежавший в домашнее стадо».
В апреле 1877 года Капустины переехали в квартиру Дмитрия Ивановича. Она была устроена так, что он мог на семейной половине и не показываться. Из его комнат был ход через кабинет в лабораторию и другие помещения университета.
По воскресеньям Дмитрий Иванович присутствовал на обеде за общим столом. «Я сидела все время молча, испытывая какой-то страх и непреодолимое смущение», – так рассказывала Анна Ивановна про свою вторую встречу с человеком, которого она уже готова была полюбить.
Вечером она обычно играла на рояле. Однажды порывисто отворилась дверь, Дмитрий Иванович остановился на пороге, хотел что-то сказать, не сказал ничего и ушел к себе. Анна Ивановна тихонько закрыла крышку рояля и тоже убежала.
Она не прикасалась к роялю несколько дней. Екатерина Ивановна заметила это и усмехнулась: «Поиграйте, матушка, поиграйте, у него нынче экзамены, может быть, добрее будет…»
Постепенно лед таял. Дмитрий Иванович появлялся по вечерам.
Обычно он приходил с шахматами. Ему составляли партию либо старшие мальчики Капустины, либо Анна Ивановна.
Однажды они остались за шахматами одни. Она задумалась над очередным ходом и унеслась мыслями далеко от клетчатого поля с двухцветными фигурками на нем. Ее вернуло в комнату ощущение воцарившейся глубокой тишины. Она взглянула на Дмитрия Ивановича и окаменела: он сидел, закрыв лицо руками.
Никогда, – сказал он вдруг тихо, как бы про себя, – никогда я так не чувствовал своего одиночества.
Он смотрел на нее широко открытыми глазами, словно впервые что-то поняв или разглядев в ней, и неожиданно, с огромной нежностью, произнес:
Простите, я не должен вас смущать…
И, как всегда быстро, он поднялся, рассыпал шахматы и вышел из комнаты.
Больше он у Капустиных не показывался. Почувствовав тревогу, Екатерина Ивановна переехала на маленькую квартирку, которую сняла неподалеку. Но, рассказывая об этом бегстве в своих воспоминаниях, Анна Ивановна вспоминала изречение Рабиндраната Тагора: «Можно ли бороться с урага- ном? Может ли река противиться морскому приливу?»
Никакое бегство помочь уже не могло.
Тихая менделеевская квартира преобразилась. Раз в неделю – по пятницам, потом по средам – она стала наполняться гулом молодых голосов. Капустины и Анна Ивановна получили приглашение бывать на менделеевских вечерах. Можно ли было от этого отказаться? Менделеев собирал всех, кто был ему дорог в искусстве и в науке. Случилось чудо: затворник вышел в свет – Менделеев стал посещать выставки, мастерские художников. В его натуре была художественная жилка. Нетрудно догадаться, какой повод позволил выявиться его художественным пристрастиям. Но художники над этим не задумывались. Они чистосердечно радовались, что неожиданно на их горизонте появился новый глубокий знаток и ценитель искусства. Они с нетерпением ждали его откликов на каждую новую работу и поражались верности и широте его суждений. В память о той помощи, которую он оказал их творчеству, они впоследствии избрали Дмитрия Ивановича Менделеева действительным членом Академии художеств. А он, в свою очередь, настолько увлекся искусством, что стал покупать картины. Художественные магазины присылали к менделеевским «средам» новые художественные издания. Именно здесь, у одного из друзей Менделеева, известного уже нам по противоспиритической эпопее Ф. Ф. Петрушевского, родился замысел создания книги о красках. Это была первая книга для художников о научном видении мира, о законах сочетания цветов в природе, о математике прекрасного.
У Менделеева постоянно бывали Крамской, Ярошенко, Репин, Мясоедов, Куинджи и другие «передвижники». Когда Куинджи выставил свою известную картину «Ночь на Днепре», выставка не могла вместить всех желавших ее посмотреть. Образовалась очередь, тянувшаяся вдоль всей Морской улицы. Профессионалов живописи поражала новизна художнического приема, которым была написана луна и блеск воды. О свете у Куинджи с восторгом говорил Крамской.
– Мерцание природы под этими лучами – целая симфония, могучая, высокая, настраивающая меня, бедного муравья, на высокий душевный строй. Я могу сделаться на это время лучше, добрее, здоровее…
Менделеевские раздумья над картиной были очень интересны.
«Перед Днепровской ночью А. И. Куинджи, как я думаю, забудется мечтатель, у художника явится невольно своя новая мысль об искусстве, поэт заговорит стихами, в мыслителе же родятся новые понятия – всякому она даст свое».
Он хотел поделиться «своими» мыслями, которые были внушены ему – естествоиспытателю – произведением искусства. Это были отрывочные мысли вслух, наскоро записанные для газетной заметки[48].
Менделеев писал о том, что в древности пейзаж хотя и существовал, но не был в почете. Даже у великанов живописи XVI столетия пейзаж если был, то служил лишь рамкою. Он приводил неожиданную аналогию: венцом науки в те времена служили математика, логика, метафизика – «думаю и пишу, однако, не против математики, метафизики или классической живописи, а за пейзаж, которому в старине не было места. Время сменилось. Люди разуверились… в возможности найти верный путь, лишь углубившись в самих себя… и было понятно, что, направляя изучение на внешнее, попутно станут лучше понимать и себя…»
Мысль Менделеева исключительно интересна: появление пейзажа в живописи он связывал с отказом от субъективного идеализма в познании, с появлением интереса к изучению объективной реальности.
«Стали изучать природу, – продолжал он, – родилось естествознание, которого не знали ни древние века, ни эпоха Возрождения…
Венцом знания стали науки индуктивные, опытные…
Единовременно, если не раньше, с этой переменою в строе познания родился пейзаж. И века наши будут характеризовать появлением естествознания в науке и пейзажа в искусстве. Оба черпают из природы, вне человека… Как естествознанию принадлежит в близком будущем еще высшее развитие, так и пейзажной живописи между предметами художества. Человек не потерян как объект изучения и художества, но он является теперь не как владыка и микрокосм, а как единица в числе».