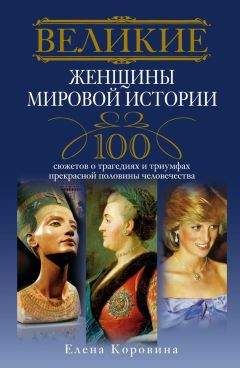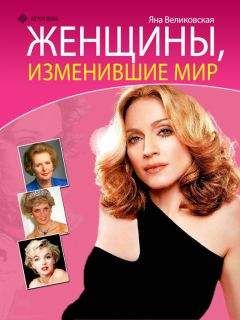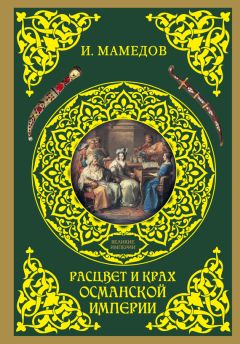Матвей Ройзман - Всё, что помню о Есенине
Сергей немного подумал и добавил:
«Я капризно заявляю, почему Map (Мариенгоф) напечатал себя на первой странице, а не меня».[86]
Действительно, третий номер «Гостиницы» Мариенгоф открыл подборкой собственных стихов, а «Москва кабацкая» была напечатана на восьмой странице. До этого номера все произведения располагались по алфавиту авторов.
Сергей подписался, поставил дату. Я спросил, если кто-нибудь захочет послать ему свои вещи для «Вольнодумца», куда их направлять. Он на следующем отрывном листке моей записной книжки написал:
«Гагаринский пер., д. 1, кв. 12». Потом зачеркнул и снова вывел адрес: «Ленинград, Гагаринская ул., угол Французской набережной, д. № 1, кв. 12. А. Сахаров, С. Есенину».
Это был ленинградский адрес приятеля Есенина А. М. Сахарова, и я спросил, будет ли Сергей привлекать к работе в «Вольнодумце» тамошний «Воинствующий орден имажинистов». Он ответил, что раньше посмотрит стихи, а потом решит.
Поглядев на наручные часы, Иванов заявил, что пора ехать: он собирался с Сергеем на три дня в село Константиново.
Оба стали пересчитывать деньги, и выяснилось, что их хватит только на дорогу. Я вспомнил, что «Ассоциация вольнодумцев» что-то должна Сергею за выступления. Полистав записную книжку, я нашел цифру: четыре червонца. Я выдал эти деньги Есенину, и он расписался на квитанции. Я проводил моих гостей и пожелал им счастливого пути.
Как же я изумился, когда на следующий день увидел в книжной лавке деятелей искусств Всеволода. Он объяснил, что, выйдя от меня, они сообразили, что на утренний поезд опоздали, а вечером ехать в Константинове поздно. Они отправились в ресторан-кабаре «Не рыдай!».
— Отличное заведение, — сказал Иванов, — но дорогое. А впрочем, мы не рыдали…
Всеволод промолчал о том, как на самом деле Есенин и он провели день. Наверно, Сергей сказал ему: «Помалкивай!» Оказывается, Сергей совершил свой ответный розыгрыш. Я был свидетелем того, как разыграли Есенина, и принимал невольное участие в окончании ответного розыгрыша Сергея.
В конце 1923 года в еврейской газете была опубликована поэма Есенина «Инония» в превосходном переводе замечательного поэта Самуила Галкина. Сергей не выпускал газеты из рук, показывал ее друзьям и знакомым, говорил, что никогда бы его стихи не перевели и не напечатали, если бы верили в то, что он питает антипатию к евреям…
Спустя несколько дней он сидел в моей комнате, велел запереть дверь на ключ и вынул из кармана адресованное ему письмо. Оно было написано на древнееврейском языке без пунктуации. Автор письма хасид (Благочестивый еврей) узнал, что он, Сергей, возрадовался переводу «Инонии» на идиш (Разговорный еврейский язык.). Пусть наполнится сердце его, Есенина, еще более великою радостью: на следующей неделе такого-то числа и месяца, в такой-то час к нему придут десять здоровяков-служек (шамесов) и со многими молитвами отнесут его на носилках под балдахином в главную хоральную синагогу, где он, посыпав пеплом голову, совершит покаяние перед богом Саваофом, которому хотел зубами выщипать бороду.[87] После чего все до одного стихотворения его, Сергея, будут переведены лучшими еврейскими поэтами.
«Да возликует сердце твое, сын мой, — заканчивал письмо хасид, — и да будут преисполнены дни и ночи твои усердными постами и молитвами пред лицом нашего бога, бога единого!»
Сергей хохотал до упаду.
— Вот стервец! Лихо! — и, переводя дыхание, спросил: — Как бы дознаться, кто это написал?
Мы долго прикидывали, как это сделать. Наверно, писал кто-нибудь из знающих Есенина людей, может быть, посетитель «Стойла» или клуба Союза поэтов. Сергей своим поведением должен ввести в заблуждение автора письма: его, Есенина, обуял страх! И вот Есенин в присутствии знакомых, особенно поэтов, стал говорить, что ему прислали письмо, в котором грозят, что десять человек нападут на него и похитят. Эта игра продолжалась полторы недели, и мы уже начали терять надежду, что она приведет к цели. Как вдруг дежуривший в клубе поэтов мой помощник Гурий Окский сказал, что сидел в комнате президиума, когда туда вошла поэтесса Елизавета Стырская и попросила разрешения позвонить по телефону. Он не знает, с кем она говорила, но, между прочим, со смехом сказала: «Есенин все еще боится, что его похитят, завел себе револьвер и ходит с ним днем и ночью». Стырская была женой поэта-сатирика Эмилия Кроткого (Эммануила Германа). Эмиль был в отличных отношениях с Есениным и, как известно, славился своим остроумием.
Но ведь Стырская могла все слышать от кого-нибудь о розыгрыше Есенина. Надо было проверить. Увидев в «Стойле» Эмиля Кроткого, я сел напротив него и стал обедать. Эмиль спросил, что я пишу. Ответив, что начал писать из древнееврейской жизни: «Любовь кенитянки» (так и было), я подосадовал, что не понимаю некоторые места в Агаде (Легенды, притчи, афоризмы, встречающиеся в палестинском вавилонском талмудах). (Так не было.)
Кроткий посоветовал обратиться к знатоку языка артисту К. из студии «Габима».
Помнится, в то время я уже напечатал рецензию о первой пьесе «Гадибук», поставленной в этой студии, знал ее главу — Цемаха, некоторых актеров. Мне не стоило большого труда познакомиться с артистом К. Я сказал, что меня направил к нему Эмиль Кроткий, который учился у него древнееврейскому языку. Отрицая, К. покачал головой: он по просьбе Кроткого только составил юмористическое письмо по поводу покаяния! Все стало ясно, и я об этом рассказал Есенину.
Как же расквитался он с Эмилем? Вместе с Всеволодом Ивановым он поехал к одному своему поклоннику, работнику большого государственного склада, и попросил его продать с доставкой на дом бочку керосина. Часа через два ее привезли на Страстную площадь к дому № 4, подняли наверх и поставили возле двери квартиры, где жил Эмиль Кроткий. Есенин позвонил, вместе с Ивановым вошел в квартиру, объяснив Кроткому и Стырской, что решил по пути нанести им короткий визит. В это время раздался сильный стук в дверь: это была соседка, член домкома, которая возмущалась, что Кроткий поставил возле двери бочку керосина. Кроткий и Стырская вместе с гостями вышли на лестничную клетку. Окна были замазаны и утеплены, убийственный запах керосина разносился по всему парадному. У Кроткого глаза полезли на лоб, у Стырской, рыхлой, полной женщины, поднялась икота.
— Кто же поставил бочку? — выдавила она из себя. — Пожарная охрана с нас шкуру сдерет!
— Где найдешь людей, которые скатили бы эту бочку вниз? — волновался Кроткий.
— О чем ты беспокоишься, Эмиль? — успокоил его Есенин. — Позови твоих десять здоровяков — служек, они ее вмиг уберут!..