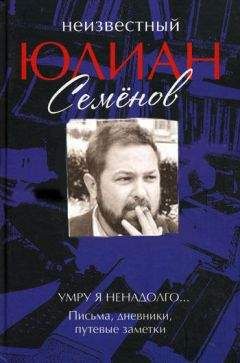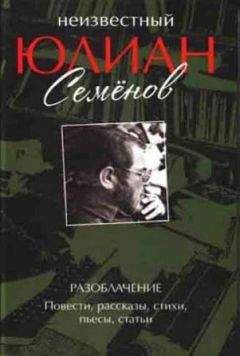Ольга Семенова - Юлиан Семенов
— Тише, мальчик, это империалистическая пропаганда!
Возвращаемся в Бад-Годсберг. По дороге отец останавливается в раскинувшихся по берегу Рейна маленьких деревеньках, славящихся своим виноделием. Заводит меня в сады виноделов, и в холодных темных подвалах, заставленных почерневшими от времени винными бочками, перехваченными зелено-медными обручами, хозяин с мозолистыми руками и командным голосом обстоятельно рассказывает нам об урожае, о заморозках, хвалит виноград и наливает в крохотные рюмочки молодое, сразу же ударяющее в голову вино.
Клаус Мэнарт был худ, стар, горбонос, а густые, кустистые брови придавали ему вид хрестоматийного немецкого профессора. Он и был профессором, специалистом по славянскому миру. Его дом в Шварцвальде (Черном лесу) стоял среди высоченных разлапистых елей, и редко когда солнцу удавалось осветить огромную библиотеку и по-немецки уютные спальни. Жена профессора давно умерла, и последние годы семидесятипятилетнего Мэнарта скрашивала тридцатилетняя пухленькая Аника — хорошенькая веселая немочка со вздернутым носом, которую он часто брал с собой в путешествия. Из Египта Аника вернулась с синяками на попе и спине — исщипали темпераментные местные жители. Больше всего ее огорчило то, что ни одному из нахалов не удалось дать пощечину. Щипали на улице, и когда она с возмущенным визгом оборачивалась, то натыкаг лась на невозмутимые лица прохожих — попробуй угадай: кого бить?!
Оттого ли, что Аника искренне восхищалась старым мудрым Мэнартом, оттого ли, что он относился к ней скорее как к дочери, нежели как к женщине, смотрелись они не смешно, а трогательно.
Я заметила, что стоило отцу почувствовать в ком-то искренний интерес к России, как он моментально проникался к этому человеку симпатией. Так получилось и с Мэнартом. Он тогда работал над книгой «Что русские читают? Что русские смотрят?» — о литературных и кинематографических вкусах россиян, и папа помогал ему, как мог. Педантичный Николай Германович (так мы его звали на русский лад) писал книгу, как серьезный научный труд, несколько раз ездил в Россию, встречался с писателями, читателями, библиотекарями и архивариусами; много говорил с папой, а в результате получился увлекательный бестселлер, раскупленный в Германии за несколько дней. Мэнарт тогда ликовал. Папа приехал к нему в Шварцвальд, Аника гостила у родителей, и старый профессор дурачился, как мальчишка. Во время прогулки по пахнувшему смолой, хвоей и грибами лесу прятался за елкой и появлялся, сгорбившись, натянув на голову плащ и опираясь на корявую клюку.
— Ха-ха-ха, Олечка. Ты знаешь, кто я? — противным голосом вопрошал он меня. — Да-а-а, я — Баба-яга! — И пускался за мной вдогонку…
…Через год Николай Германович приехал в гости к папе в Москву, привез нам с Дарьей украшения из серебра с лазуритом и бирюзой из Латинской Америки, был весел и улыбчив.
— А где же Аника? — огорчилась я, поняв, что в этот раз он приехал один.
— О, я купил ей книжный магазин, — гордо улыбаясь, ответил профессор, — у нее теперь много работы.
Я порадовалась и чуть позавидовала Анике, которая могла теперь целыми днями сидеть в собственном магазине, принимая умных посетителей и читая любые книжки, поблагодарила Николая Германовича за подарки и больше его не видела, занятая школьными делами. А через несколько месяцев, в ноябре 1983 года, папа получил по почте письмо с черной каемочкой: «Сорок лет назад ясновидящая индианка в Нью-Дели сказала мне, что я доживу до восьмидесяти четырех лет, то есть до 1990 года. Она оказалась плохой предсказательницей. Когда вы прочтете эти строки, меня не будет. Этим летом у меня обнаружили рак желудка и стало ясно, что смерть близка. Чтобы не обрекать себя на бездействие в госпитале, которое могло бы продлить мою жизнь на несколько недель, я решил уйти сейчас. Закончив книгу о русских, которую прочла вся Германия, я писал статьи, выступал по радио и телевидению и порой чувствовал, что у меня просто нет времени умереть. Но теперь финал близок. Разумеется, я бы предпочел, чтобы сбылось индийское предсказание. Я хотел бы жить, радоваться прекрасному и не жаловаться на тяжелые времена. Но я умираю, как часто говорят, после насыщенной жизни. Я не испытываю страха. Скорее любопытство. Что будет? Увижу ли я моих родителей, братьев и мою любимую Энид, которая, умирая, прошептала мне на ухо „до завтра“. Или я буду спать без снов, как спал всегда после тяжелого дня работы? Или это будет абсолютно отлично от всего, что мы себе представляем? Когда вы прочтете эти строки, я уже буду знать.
Мои мысли обращаются ко всем вам — моим друзьям и коллегам. В большой мере благодаря вам я был счастливым человеком. Я желаю вам всего самого лучшего. Храни вас Бог».
Это письмо, как пример настоящего мужества, папа берег среди самых дорогих своих бумаг.
В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ…
«В горах мое сердце» — так называется грустный папин рассказ. В нем он описывает несколько дней, проведенных в Закопане, в семейном пансионате, пропахшем свежевыпеченным хлебом и кофе, у старенькой хозяйки с седыми буклями. Отец приехал туда после журналистского визита Варшавской кардиологической клиники. Он ходил с главврачом по детскому отделению и смотрел на крохотных младенцев с голубыми ноготками и губами — все они были обречены.
Отрывок из рассказа «В горах мое сердце».
Огоньки в горах уже не перемигивались, над Закопане лежала тишина и только где-то далеко звенели бубенцы. Когда я лег в холодную постель, то вдруг почувствовал себя так, как однажды дома, тогда я сидел ночью один и работал. А передо мной стоял черный телефонный аппарат. Я позвонил приятелю и спросил:
— Ты знаешь мой новый номер?
— Нет.
Он записал.
— Пока, — сказал я и положил трубку. А через минуту он позвонил ко мне и спросил:
— Добрый вечер, старина, как поживаешь?
— Спасибо, уже лучше. А ты?
— А я, как всегда, хорошо. Спи.
Мне тогда стало спокойно и здорово после его звонка. А сейчас я лежал, смотрел на горы и пытался уснуть. В дверь тихо постучали.
— Доброй ночи, пан, — раздался голос старенькой хозяйки.
— Доброй ночи, пани! — ответил я, улыбнувшись, и сразу же уснул.
Горы папа любил всегда, несколько раз вывозил всю семью, но на горные лыжи впервые встал поздно, в 49 лет, в Швейцарских Альпах. Его понесло по склону, он врезался в «горнопляжницу», спокойно загоравшую в шезлонге. Напугал ее, в кровь разбил себе нос. Тогда и дал слово научиться кататься. Начал, вернувшись в Союз, в Бакуриани. Утром катался, все остальное время писал роман «Смерть Петра», второй в серии исторических романов «Версии». Отец был убежден, что Петр Первый умер не своей смертью — его убили, чтобы помешать завершить превращение России из отсталой азиатской страны в великую державу со школами, мануфактурами и флотом. Убили российские консерваторы, страдавшие по прекрасной старине и проклинавшие «Антихриста», но смерть эта была прежде всего угодна Европе, начавшей опасаться российской мощи. В этом романе мне больше всего нравится фраза: «Ну кто, когда и где придумал, что истинно русский только тот, кто евангельскому несопротивлению прилежен, жив созерцанием, а не делом, угодным только Царству западного Антихриста?! Кто и когда это сочинил, пустив в оборот? Не русский, только не русский! Тот, кто страшится русского замаха, русского дела и спора русского!»