Ромен Гари - Ночь будет спокойной
Ф. Б. Что чувствуешь, когда получаешь Гонкуровскую премию?
Р. Г. То же, что и в Голливуде. Это рекламный момент в общей эфемерной суете наград, оваций и критики.
Ф. Б. Это ничего не изменило в твоей жизни?
Р. Г. Это изменило мое местожительство. Я смог позволить себе «Симаррон», мой дом на Майорке на берегу моря, где я провожу пять-шесть месяцев в году…
Ф. Б. Ты много времени проводишь нигде?
Р. Г. Много, но я, по крайней мере, осознаю это, тогда как большинство людей, с которыми я встречаюсь, уже так прижились и настолько поверили, что, находясь нигде, они находятся у себя дома, что это приводит в ужас… своей нереальностью. Естественно, что после того, как я оставил дипломатическую службу, я не перестаю колесить по свету, занимаясь журналистикой или кино, или просто следую вращению Земли, которая нуждается в том, чтобы за ней присматривали…
Ф. Б. Момент, когда ты покидаешь Лос-Анджелес, совпадает с переменой в твоей жизни. Ты разводишься с первой женой, порываешь с Министерством иностранных дел, уйдя в «резерв» на десять лет, и, продолжая выдавать по роману в год, начинаешь заниматься кинорежиссурой и журналистикой, главным образом в Америке… Это был осознанный разрыв?
Р. Г. Да. Мне было сорок шесть, и я слишком удобно устроился и в самом себе, и на службе, мне угрожала пожизненная рутина и вечно неизменный я сам… Я решил все взорвать, нечто вроде «культурной революции» по-китайски: пересмотр всего, что было достигнуто в личном плане. Это было нелегко, в особенности в том, что касалось службы. Я привык к Клубу, к привилегированной жизни за границей, к нахождению за пределами Франции и ко всей этой суете внутри министерства: друзья, смена должностей, бесшумные шаги в коридорах и чувство причастности к Клубу избранных… Впрочем, через полтора года после ухода я совершил крайне несвойственный мне поступок — я сделал шаг назад: я предпринял демарш в отношении Кабинета, чтобы узнать, сожалеют ли там о моем уходе, могут ли обойтись без меня и не будут ли умолять меня вернуться… Директор по кадрам был, наверное, лучшим моим другом в министерстве, и вот какое письмо он мне написал:
Мой дорогой Ромен!
Хоть я и нормандец, ответ, который я вам даю, является отражением не моего происхождения, а самой реальности, такой, по крайней мере, какой я ее вижу.
Ваше возвращение «в лоно Церкви» создает, на мой взгляд, нечто большее, чем просто техническую сложность, и в гораздо меньшей степени вызывает принципиальное возражение. Техническая сложность, вы ее знаете, или, вернее, догадываетесь о ней, так как дела идут хуже некуда после введения нового статуса, который увеличил число претендентов, не изменив числа мест, подлежащих распределению.
Что же касается принципиального возражения, тут не все так ясно. В той степени, в какой я могу предположить и определить, что думают наверху, скажу, что вас считают в настоящее время слишком вовлеченным в различные виды внешней деятельности — то обстоятельство, что она блестяща и увенчана лаврами, лишь усугубляет положение вещей, — чтобы «снова стать сотрудником как все».
Это не означает, что для вас не найдется больше места в министерстве, просто вы ставите перед нами деликатную проблему использования.
Впрочем, ситуация может со временем измениться, так же как может появиться пост, который подошел бы вам по всем параметрам. Поэтому не следует считать позицию окончательной и не подлежащей пересмотру.
Примте, мой дорогой Ромен…
Это было написано приятелем и являло собой опус хорошего качества; для любого, кто знает этот язык, ключевой была фраза: «Впрочем, ситуация может со временем измениться», что означало, что нужно подождать ухода Кув де Мюрвиля, который был тогда министром иностранных дел. И когда Кув де Мюрвиль ушел, я действительно получил от Барадю, начальника отдела культурных связей, и от Бюрена де Розье, нашего посла в Италии, предложение снова работать в Министерстве иностранных дел в качестве советника по культуре в Риме. Однако к тому моменту я носил уже очень длинные волосы, джинсы, и, после семи лет службы в военно-воздушных силах и пятнадцати лет дипломатической, у меня больше не было желания снова надевать ошейник.
Ф. Б. Из приведенного письма ясно следует, что Кув де Мюрвиль противился твоему возвращению «в лоно Церкви». Ты на него за это не в обиде?
Р. Г. Ничуть. С ним у меня сохранились приятельские отношения. Отказ реинтегрировать меня не был следствием его отношений со мной, причина крылась в его отношениях с самим собой. Мне кажется — да простит он меня! — что у Кув де Мюрвиля довольно сложные отношения с самим собой, а по общему правилу в подобных случаях за издержки платят другие. В министерстве был известен его дисциплинарный ригоризм, об этом знали все, как о страсти Жоржа Бидо к корнишонам. Но когда нужно было принести себя в жертву, он не колебался. Одним из самых ужасных зрелищ, при которых мне довелось присутствовать, был визит Кув де Мюрвиля в Диснейленд, когда он был послом Франции в Вашингтоне. Он подчинился американской фольклорной традиции с самоотречением, достойным восхищения, и клянусь тебе, что зрелище, которое представлял Кув де Мюрвиль, вращающийся в одной из этих чайных чашек на блюдце, которые есть у них в Диснейленде, или гарцующий на деревянных лошадках, являлось самым замечательным примером преданного отношения к своим обязанностям и представительским функциям, который только мог подать посол-протестант… Нет, я на него не в обиде, и, кстати, в момент моего возвращения из Лос-Анджелеса я получил отличную компенсацию. Де Голль пригласил меня на обед — среди прочих там был Галюшон и еще три или четыре человека, если нужны свидетели… Генерал спрашивал меня: «Что вы сейчас собираетесь делать, Ромен Гари?» Я отвечаю, что лежу в холодильнике: так во французском МИДе говорят о дипломатах без назначения. А он говорит: «Не согласитесь ли работать со мной?» Он не упомянул ни о какой конкретной должности, но единственным свободным постом в его аппарате в тот момент был пост дипломатического советника. Что ж, пост дипломатического советника генерала де Голля — это вызывает уважение, если смотреть со стороны, однако на самом деле в нем не было смысла, де Голль нуждался в дипломатическом советнике примерно так же, как твоя родная Швейцария в дополнительных горах.
Ф. Б. Что ты ответил генералу?
Р. Г. Я ответил слишком поздно, потому что я как бы подумал несколько секунд, а это было немыслимо. Партия была проиграна… На самом деле я не думал, я был ошарашен. Я прекрасно знал, что дипломатический советник или что-то другое означает лишь присутствие. Но я был бы тогда карьерным дипломатом на посту советника при де Голле — это означало успешную карьеру. А какой наблюдательный пост для любителя человеческой натуры! И потом, возможность говорить со стариком едва ли не каждый день… Полагаю, ни о чем другом, кроме как о Мальро, мы бы не говорили. И тем не менее… Я ответил: «Мой генерал, я хочу писать». Он заговорил о другом: о переводе Хаммаршельдом стихов Сен-Жон Перса… Несколько дней после этого я не находил себе места.
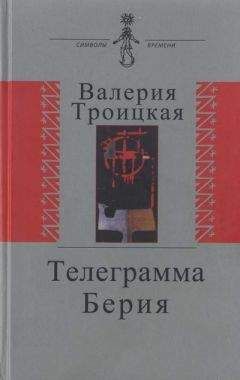
![Екатерина Дмитриева - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна: Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](/uploads/posts/books/272784/272784.jpg)


