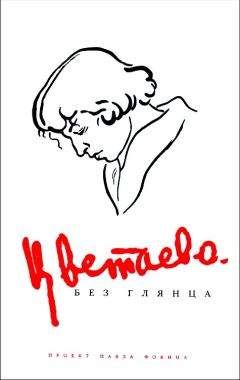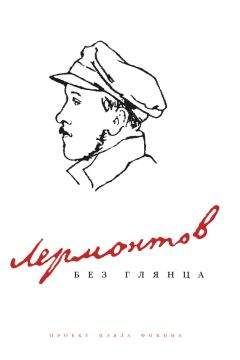Павел Фокин - Твардовский без глянца
Часто вспоминается и много думается о мальчике трех лет, которому кто-то из наших дал кусочек хлеба или еще что, и он ответил:
– Danke schön.
Научили!» [10; 174–175]
Евгений Захарович Воробьев:
«Путь Александра Трифоновича к Смоленску прошел через его родное Загорье. Он заехал туда после встречи с летчиками на аэродроме в Починке, после того, как оказался в двенадцати – пятнадцати километрах от отчего дома. В очерке „По пути к Смоленску“ („Красноармейская правда“, 28 сентября 1943 года) он писал: „В Загорье я не застал в живых никого. Кто уцелел – подался в леса, скрывается у дальней родни, знакомых. Остальные – на каторге у немцев или в больших общих могилах, которые были мне указаны жителями других деревень. Из прежних соседей моей семьи я нашел только Кузьму Ивановича Иванова, который последние годы жил в Смоленске, и только нашествие немцев вновь заставило его искать прибежище в родных деревенских местах. Грамотный, памятливый и толковый человек, он рассказал мне при нашей короткой встрече все, что знал о наших общих знакомых, родных, близких, о горькой и ужасной судьбе многих из них“.
Автор не включил этот отрывок в свою фронтовую прозу, – видимо, посчитал чересчур личным». [2; 157–158]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 30 октября 1943 года:
«Мысли – все о войне, о ее первом и последующих годах, о „полосах“ ее. Вспоминаю, как не мог ничего читать в первый год войны, все казалось сметенным ею. А теперь едва ли не самая большая радость – почитать добрую книгу, ожить душевно и умственно, ощутить прочность того, что создано не на шутку.
Основное ощущение войны, что она уже стала нормальностью для людей, что необыкновенным, труднопредставляемым является не она, а наоборот. И еще то, что она утратила всякую романтику. Все, все, все уже впору. И люди – я говорю о тех, которые давно на войне и более или менее сохранны физически, – живут, как будто так и надо, устраиваются получше, не мельтешат уже, не позируют, не увлекаются, а делают, тянут…» [10; 202]
Евгений Захарович Воробьев:
«В дни освобождения Белоруссии фронтовые пути и перепутья разлучили меня с Твардовским. Ему можно было только позавидовать – он все время находился на направлении главных ударов. Днем 26 июня он вошел в дымящийся Витебск, а ранним утром 3 июля был с передовыми танковыми частями в Минске». [2; 164]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1944 года:
«Поездка за Витебск. Новизна: вступление в город одним из первых. Отчетливое „ура“, бомбежка нашими самолетами окраины города, пулеметные очереди. ‹…›
Как три года назад – пыль дорог, грохот с неба и с земли, запах вянущей маскировки с запахом бензина, тревожное и тоскливое гудение моторов у переправ – и праздные луга и поля – все как три года назад. И только – мы идем на запад и занимаем города. И мы долбим противника с неба и с земли, и окружаем, и пленим, и обгоняем – бьем – мы. Но топчем землю мы родную, и мы жестоки. А земля – она как будто постарела, как мать стареет вдруг от беды. Как мать от горя и беды. Ее цветенье – повторенье как будто мягче и смиренней. И все на свете ждет конца». [10; 258–259]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 4 или 5 июля 1944 года:
«…Опять записка, а не письмо. Живу – 500–600 километров в сутки туда-обратно, пишу в таких условиях, что трудно требовать чего-либо доброго, но настроение хорошее, мне довелось видеть то, о чем можно было только мечтать: успех такой, что он на лице каждого солдата, стремительность, необычность и фольклор, как в то лето, только по-иному.
Обнимаю тебя, дорогая, сажусь в машину, еду в Вильно, которого еще нет, понятно. Как писать тебе, если то, что у меня сегодня сверхновость, для тебя при получении письма будет чем-то давним и неинтересным». [10; 265]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 11 июля 1944 года:
«…Я все время на колесах с малыми остановками в пути. Мы так растянулись, и так много нового в нашей жизни. Это напоминает мне 1941 г., только все наоборот. Мы с ходу врываемся в города, мы вклиниваемся, окружаем и т. п., они бегут, задерживаясь на иных рубежах и зло огрызаясь, они бродят по лесам („немцы-окруженцы“), в общем, об этом писать в письме нет возможности. Я в бездне новых ощущений, мне бы только время и место, только бы приземлиться, я бы мог писать все – и „Тёркина“ (заключительные главы), и „Дом у дороги“, ему вдруг нашлось развитие и сюжет – простой и сильный, и стихи разные, и очерки, и даже рассказы. Но этого-то и нет у меня покамест, надеюсь, что будет. Сегодня опять едем (все) вперед». [10; 266]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1944 года:
«Почему так устала душа ото всего и не хочется писать, надоела война? По той же, кажется, причине, по которой мужик, помогавший другому мужику колоть дрова тем, что хекал за каждым ударом, первым устал, говорят, и отказался от работы, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны, издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются при том, когда человек воюет. Для него каждый новый этап, каждый данный рубеж либо пункт, за который ‹…› он должен практически драться, нов и не может не занимать его сил с остротой первоначальной свежести, а для нас, хекающих, это все уже похоже, похоже, мы уже по тысячам таких поводов хекали. Это все неправильно, но довольно подходит к настроению, которое, несмотря на оглушительные успехи наступления (вчера было пять салютов!), дает себя знать, чуть ты огорчишься чем-нибудь внешним, чуть выйдешь из состояния приподнятости душевной, при которой только и можно что-либо делать». [10; 277]
Аркадий Михайлович Разгон:
«Вскоре после нового, 1945 года Политуправление Третьего Белорусского фронта созвало совещание писателей-фронтовиков. Это было время непродолжительной зимней передышки. На совещание, проходившее в Каунасе, съехались сотрудники дивизионных и армейских газет, работники фронтовой газеты „Красноармейская правда“. ‹…›
Выступление Твардовского для многих из нас было откровением. Особенно для тех, кто писал стихи. А кто их не писал в ту пору! Твардовский говорил о великой ответственности поэта перед лицом событий, перед народом. Он говорил, что надо писать так, чтобы „отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных“. Большую часть своего выступления Твардовский посвятил литературе, рожденной Великой Отечественной войной, стихам поэтов нашего фронта. И здесь Твардовский был прямолинеен в своих суждениях. Он не прощал графоманства, приспособленчества, языковых огрехов. Было сказано: „Мы с вами живем в трудное, но великое время. И нельзя сейчас делать литературу «с колес». И по тому, что и как мы скажем, будут судить не столько о нас, сколько о времени, в котором мы с вами живем“». Эти слова Твардовского я тогда записал». [2; 214]