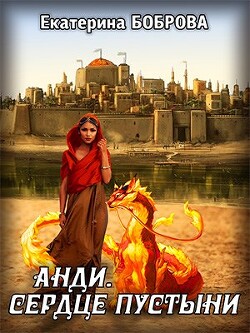Слезы пустыни - Башир Халима
Мы петляли, уворачивались и мчались вперед, под прикрытие леса, минуя окровавленные груды тел, разорванных в клочья градом снарядов. Некоторые из наших соседей и друзей были еще живы, они с трудом ползли, кричали, протягивая к нам руки и моля о помощи. Но если бы мы остановились, джанджавиды догнали бы нас и все мы погибли бы. И потому мы бежали, обрекая раненых, стариков, неспособных быстро двигаться, и младенцев на чудовищную смерть от руки джанджавидов.
Мама двигалась медленнее, чем мы, и я заметила, что она начала уставать. Она умоляла оставить ее, говоря, что побежит в своем темпе и догонит нас в лесу. Но мы отказались. Вместе с Мо и Омером мы наполовину понесли, наполовину потащили ее вперед. Я взывала к Богу, чтобы он помог всем нам спастись.
Мы бежали и бежали, с каждым шагом отдаляясь от ада. Я была объята ужасом за всех нас, но мыслями то и дело возвращалась в деревню, к отцу. Безоружный, если не считать кинжала, он сделал выбор: принять эту чудовищную бойню. И я знала почему. Те, кто решил остаться и сражаться, хотели помешать джанджавидам догнать женщин и детей — чтобы выиграть для нас время. Они остались, чтобы спасти свои семьи, а не для того, чтобы защищать деревню. Они сделали это, чтобы спасти нас от джанджавидов.
Наконец мы укрылись в глухом лесу, где вертолеты больше не могли охотиться на нас с воздуха. Мы спрятались под деревьями. Куда ни кинь взгляд, были рассеяны группы односельчан. Мо, Омер, Асия, мы с мамой с трудом переводили дух; нам было страшно. Притаившись в полумраке, мы вслушивались в шум бушующей битвы, пытаясь разобраться, сделался ли он ближе и нужно ли нам опять бежать.
Шум вертолетов затих вдали. Из деревни до меня доносились выстрелы, вопли и гулкое эхо взрывов. Вокруг причитали малыши. Плакали и плакали слабенькие голоски. Почему эти люди напали на нас и разрушили нашу деревню, всхлипывали они. Что мы такого им сделали? Отчаявшиеся матери пытались узнать что-нибудь о своих детях. Многие потеряли малышей в безумной суматохе бегства.
Матери начали бить себя и истерически голосить, терзаясь виной за то, что бросили детей. Мы пытались успокоить их: крики могли выдать джанджавидам наше укрытие. Некоторые порывались вернуться и отыскать пропавших родных, но нам пришлось удерживать их, ибо это означало бы верную смерть.
Тянулись страшные часы в этой адской атмосфере; мы ждали. Измученные плачем женщины и дети с отрешенными от потрясения лицами застывшим взглядом смотрели перед собой. Время от времени глухую, жуткую тишину разрывал треск пальбы. С каждым выстрелом дети вскакивали, заходились криком, в ужасе искали глазами врага. Что, если они уже каким-то образом обнаружили нас и все мы погибнем? Но больше всего я думала об оставшемся в деревне отце и молилась Богу, чтобы он защитил его и сохранил ему жизнь.
Где-то за час до заката шум битвы сменился мертвой тишиной. Вдали, там, где горела деревня, поднимался густой столб дыма. Отец велел ждать его, но никто не пришел за нами. Оставалось только надеяться, что он вместе с другими мужчинами занимался ранеными в деревне. Но в таком случае мне, врачу, тоже полагалось быть там. Испуганные глаза встречались с испуганными глазами, когда мы спрашивали себя, как нам лучше поступить: оставаться в лесу или рискнуть вернуться в деревню?
Началось приглушенное, лихорадочное перешептывание. Кто-нибудь что-нибудь слышит? Нет, все тихо. Означало ли это, что враг ушел? Может, да, а может, и нет, кто скажет наверняка? Не исключено, что джанджавиды прячутся, готовясь напасть на нас из засады. Единственный способ выяснить это — пробраться назад в деревню.
Наконец было достигнуто коллективное решение. Медленно, осторожно, каждую минуту замирая и прислушиваясь, мы проделали обратный путь по темнеющему лесу до окраины села.
Когда показались первые хижины, люди не могли дольше сдерживаться. Они бросились к своим домам разыскивать близких. Вместе с мамой, сестрой и братьями я бежала сквозь удушливый дым. Повсюду вокруг нас пылали красные пожары, густо трещало пламя. На каждом шагу я чувствовала запах горения и смерти. Тела были повсюду — адская картина. Каким-то чудом я отыскала дорогу к нашему дому. Изгородь была снесена, повсюду раскиданы наши пожитки. Но меня это не волновало. Меня волновало только одно — мой отец. Мой отец! Где мой отец?
Я бросилась к соседям. А вдруг он там, помогает родственникам Кадиджи? Одна из ее сестер только что родила девочку, и я принимала у нее роды. Распахнув дверь ее хижины, я обнаружила только тело, осевшее на залитый кровью земляной пол. Рядом с мертвой матерью дымился костер, в золе — крошечный обугленный трупик. Джанджавид выстрелил матери в живот и бросил в огонь ее маленькую дочь. Запах в хижине был тошнотворный.
Я отвернулась и опустилась на колени. Подступила дурнота, слизь забила горло. Согнувшись в приступе рвоты, я услышала хор воплей, доносившийся из центра деревни, рыдающее горестное крещендо душераздирающей скорби. Женщины кричали, что они нашли деревенских мужчин! Деревенские мужчины здесь! Вместе с матерью и братьями я бросилась туда, откуда раздавались эти крики. В ночной тьме, опускавшейся на горящую деревню, мы добежали до базарной площади.
Земля была усеяна призрачными телами. Женщины, стоя на коленях, причитали над своими близкими, выкликали имена погибших, горестно бились головами об окровавленную землю. Но среди мертвецов было несколько живых. Я лихорадочно искала, мысли мои метались. Где отец? Где мой отец? Мой отец! Мой отец! Мой отец! Где он? Боже, только бы он был жив. Пусть даже раненый, только бы живой. Только бы он был жив! Только бы он был жив! Только бы он был жив!
Я увидела, как застыл на месте Омер. Лицо его искривилось, ноги подкосились, он схватился руками за голову и начал рвать на себе волосы. Наклонившись, чтобы обнять погибшего, он обвил его руками, прижался лицом к лицу, к волосам, всхлипнул, застонал, задрожал, как раненое животное. И я тоже осела наземь.
Я знала, это был мой отец. Я знала, это был мой отец. Я знала, это было мой отец. Я знала, это был…
Через некоторое время я пришла в себя. Я лежала на спине, рядом была мама. Ее остекленевшее, опустошенное лицо было залито слезами. Я оглянулась на толпу рыдающих женщин и вдруг вспомнила, как Омер низко склонился к погибшему отцу. Мама смотрела на меня потрясенным, потерянным взглядом. Я хотела спросить, но она покачала головой и снова заплакала. И тогда я зашлась в долгом, хриплом вое невыносимой, опустошающей боли. Я никогда не перестану оплакивать моего погибшего отца, неважно, сколько мне суждено прожить.
Многие односельчане были изранены, но остались в живых. Они пострадали от огнестрельного оружия, ножевых ударов, огня, осколков снарядов. Я должна была попытаться помочь им, но в таком состоянии не могла ничего, абсолютно ничего. Уцелевшие женщины и дети, собравшись вместе, называли имена погибших, кричали и рыдали так, что я не вынесла бы этого, не будь всецело поглощена собственной невыразимой утратой.
Мы были горсткой людей, объединенных общим горем и бессильных постичь, что стало с нашей жизнью. Пока мы предавались скорби, мужчины, в том числе и мои братья, отправились осматривать павших, чтобы выяснить, кто мертв, а кому еще можно помочь. Большинство убитых были из числа тех, кто остался сражаться. Другие — старики, дети — оказались недостаточно быстрыми и выносливыми для того, чтобы спастись. Беременных женщин рубили на бегу саблями. Деревенских старейшин сжигали заживо в хижинах. Младенцев бросали в огонь.
Всю эту темную адскую ночь люди собирали мертвецов и к рассвету были готовы к похоронам. Первая из ослиных повозок со скрипом выехала из деревни с грузом застывших окровавленных тел. Я была настолько потрясена, что жила лишь памятью о покойном отце, в памяти всплывало его лицо, он по-прежнему разговаривал со мной, обнимал меня, смеясь и улыбаясь. Пытаясь вернуться в настоящее, я видела только заволакивавшую всё пелену красного тумана. Чтобы вывести меня из ступора, потребовалась новая ужасная встряска.