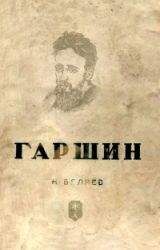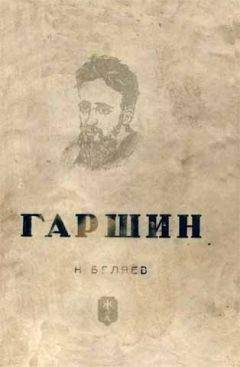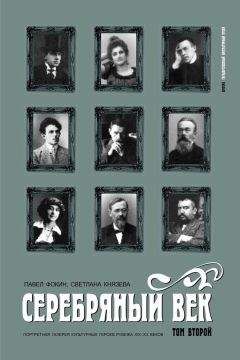Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
«„Толстой-старец – это поэма…“ и это истинная правда, как правда и то, что „Толстой – великий художник“ и как таковой имеет все слабости этой породы людей. В том, что он художник – его оправдание за великое его легкомыслие, за его „озорную“ философию и мораль, в которых он, как тот озорник и бахвал парень в „Дневнике“ Достоевского, похваляется, что и „в причастие наплюет“. Черта вполне русская. И Толстой, как художник, смакует свою беспринципность, свое озорство, смакует его и в религии, и в философии, и в политике. Удивляет мир злодейством, так сказать. Лукавый барин, вечно увлекаемый сам и чарующий других гибкостью своего великого таланта.
Деловитая и мирская гр. Софья Андреевна не раз говорила мне в Ясной Поляне, сколько увлечений, симпатий и антипатий пережил Лев Николаевич. Он еще недавно восхищался характером и царствованием Николая Павловича, хотел писать роман его эпохи, теперь же с редким легкомыслием глумится над ним.
Провожая меня, как я и писал тебе, Толстой „учительно“ говорил, что даже „православие“ имеет неизмеримо больше ценности, чем грядущее неверие. Рядом с этими покаянными словами издаются за границей „пропущенные места“ из „Воскресения“, где он дает такой козырь в руки неверию.
Сколько эта барская непоследовательность, „блуд мысли“, погубила слабых сердцем и умом, сколько покалечила, угнала в Сибирь, один Бог знает! И все ведь так мило, искренне и очаровательно, при одинаковой готовности смаковать „веру“ умного мужика Сютаева и вошь на загривке этого самого Сютаева.
Как часто этот „смак художника“ порождает острую мысль, хлесткую фразу, а под удачливую руку и целую систему, за которой последователи побегут, поломают себе шею. Он же, „как некий бог“, не ведая своей силы, заманивая слабых, оставляет их барахтаться в своих разбитых, покалеченных идеалах.
„Христианство“ для этого, в сущности, нигилиста, „озорника мыслей“, есть несравненная тема. Тема для его памфлетов, остроумия, гимнастики глубокомыслия, сентиментального мистицизма и яростного рационализма. Словом, Л. Н. Толстой – великий художник слова, поэт и одновременно великий „озорник“. В нем легко уживаются самые разноречивые настроения. Он обаятелен своей поэтической старостью и своим дивным даром, но он не „адамант“» (М. Нестеров. Письмо. 31 августа 1906).
Лев Толстой
«Мы уже начинали усаживаться, когда из дальней двери налево, шмыгая мягкими ичигами, вышел небольшой, худенький старичок в подпоясанной блузе. Длинная блуза топорщилась на осутуленной спине.
Он шаркал довольно быстро, тотчас стал здороваться. Но меня поразило почему-то, что он – маленький. Это – Лев Толстой? Если все бесчисленные портреты, которых мы навидались так, что они точно вросли в нас, если они – Толстой, то этот худенький старичок не Толстой. Словом, – не могу их соединить, нового живого – с неживым и привычным.
…Привычно усталым голосом Толстой говорит привычные вещи. О жизни… о молитве… Толстой заговорил неодобрительно о современных стихотворцах, упомянул Сологуба…
…Мы говорим, конечно, о религии, и вдруг Толстой попадает на свою зарубку, начинает восхвалять „здравый смысл“.
– Здравый смысл – это фонарь, который человек несет перед собою. Здравый смысл помогает человеку идти верным путем. Фонарем путь освещен, и человек знает, куда ставить ноги…
Самый тон такого преувеличенного восхваления „здравого смысла“ раздражает меня, я бросаюсь в спор, почти кричу, что нельзя в этой плоскости придавать первенствующее значение „здравому смыслу“, понятию к тому же весьма условному… И вдруг спохватываюсь. Да на кого я кричу? Ведь это же Толстой! Нет, я решительно не могу соединить худенького, упрямого старичка с моим представлением о Льве Толстом. Не то, что этот хуже или лучше: а просто Львов Толстых для меня все еще два, а не один.
В сущности же маленький старичок говорит именно то, что говорит и пишет Л. Толстой все последние годы. Я понимаю, что Толстой – „материалист“. Но я понимаю (утверждаю это и теперь), что Толстой – совершенно такой же „материалист“, как и другие русские люди его поколения, религиозно-идеалистические материалисты. Только он, как гениальная, исключительной силы личность, довел этот идеалистический материализм до крайней точки, где он уже имеет вид настоящей религии и отделен от нее лишь одной неуследимой чертой.
Переступил ли ее Толстой? Переступал ли в какие-нибудь мгновения жизни? Вероятно, да. Думаю, что да. Мы говорили о воскресении, о личности, и вдруг Толстой произнес, ужасно просто, – потрясающе просто:
– Когда умирать буду, скажу Ему: в руки Твои передаю дух мой. Хочет Он – пусть воскресит меня, хочет – не воскресит, в волю Его отдамся, пусть Он сделает со мной, что хочет…
После этих слов мы все замолчали и больше уже не спорили ни о чем» (З. Гиппиус. Живые лица).
Лев Толстой
ТРЕТЬЯКОВ Сергей Михайлович
Поэт, драматург. Публикации в журнале «Творчество». Стихотворные сборники «Железная пауза» (Владивосток, 1919), «Путевка» (Чита, 1922), «Ясныш» (Чита, 1922), «Итого» (М., 1924), «Октябревичи» (Л., 1924). Пьесы «Слышишь, Москва?!» (1924), «Противогазы» (1924), «Рычи, Китай!» (1926). Погиб в ГУЛАГе.
«Сережа сух, но очень упорен и привязчив. В своей логике Третьяков страшнее Брика. А Брик, как известно – это учебник логики, поставленный на ноги.
Третьяков как-то безоговорочно примкнул к футуризму и никогда ему не изменял, отстаивая его всюду и всегда.
Помимо футуризма он любил играть в преферанс, в пинг-понг.
…Третьяков один из первых ввел в поэтический обиход Москвы шуточные стихи. Стихи „к случаю“. Отсюда – шаг до теории „очеркизма“.
Третьяков шагал в литературе неуклюже, как медведь, не смущаясь некоторым провинциализмом. Всегда был очень уверен в себе и резко критиковал других, „невзирая на лица“. Не боялся дойти в своей прямолинейности до абсурда и, ткнувшись лбом в стену, не боялся повернуть обратно» (В. Шершеневич. Великолепный очевидец).
ТРИВУС Виктор Михайлович
Поэт. Публикации в журналах и альманахах «Новый журнал для всех», «Рудин», «Арион». Член «Кружка поэтов» (Пг., 1916).
«Едва ли не самым талантливым в кружке был Виктор Тривус.
Широкоплечий, не ладно скроенный, но крепко сшитый толстяк с мясистым потным лицом, с насмешливо, дерзко сверкающими глазами, балагур и весельчак, он нес в своем неуклюжем теле яростную, воинственную страсть к поэзии. Карманы его засаленной тужурки всегда были набиты клочками бумаги, на которых он записывал „удачные строки“. В поэзии Тривус провозглашал себя убежденным сторонником „прозаизма“, беспрестанно цитируя любимых им французских поэтов Жюля Лафорга и Артюра Рембо в собственных грубоватых, но точных переводах. Из соотечественников он увлекался В. Нарбутом и М. Зенкевичем. Пафосом его жизни была „поэзия будней“, все самое обычное, примелькавшееся, но очищенное „на огне поэтической речи“.