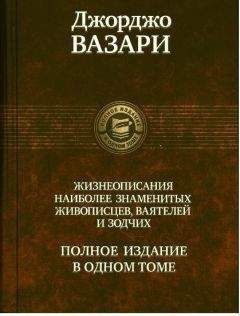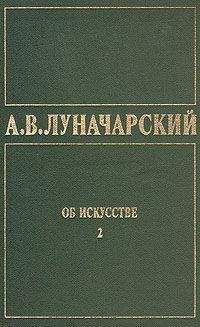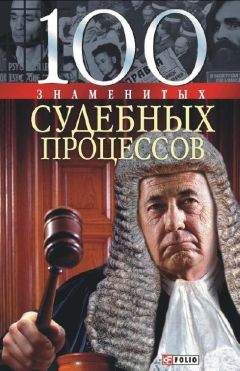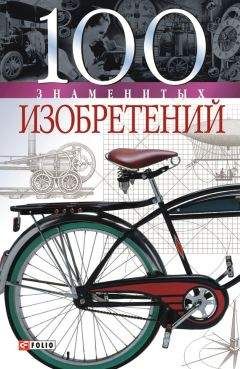Ирина Рудычева - 100 знаменитых художников XIX-XX вв.
В 1951 г. Зверев поступил в Московское художественное училище им. 1905 года, но уже с первого курса был отчислен, по одним данным, «из-за внешнего вида», по другим – «из-за богемно-анархического поведения». Видимо, имели место обе причины, так как юноша, живший в тяжелых материальных условиях, действительно выглядел не лучшим образом, а характер имел гордый и независимый.
Звереву ничего не оставалось, как податься в маляры. Он работал в московских парках: благоустраивал детские площадки, красил заборы и скамейки, поправлял песочницы и грибки. Занятий живописью не оставлял. Правда, денег на краски не было, и он зарабатывал их игрой в шашки.
Вот, собственно, и все, или почти все, чем была «богата» житейская биография Зверева. Но вслед за этим началась непростая биография творца, способного, по словам искусствоведа С. Кускова, «превращать в живопись буквально все, что попадало в поле его внимания». Она окружена различного рода мифами, слухами и легендами, наполнена многими интересными, а порой и судьбоносными встречами. Первая из них произошла у Анатолия в начале 60-х гг. в парке «Сокольники» с известным актером Камерного театра Александром Румневым. Этот утонченный ценитель искусства стал свидетелем любопытной сценки. Он увидел, как один из рабочих парка – бледный худощавый паренек в слишком большом для него овчинном тулупе и разных сапогах – хромовом и кирзовом, принес ведра с белилами и киноварью. Подойдя к фанерному щиту, он начал с небрежным артистизмом водить по нему обычным кухонным веником, поочередно опуская его в ведра с красками. И буквально через несколько минут на грязной фанере «поселились» диковинные птицы, яркие и лучистые. Румнев понял, что перед ним – несомненный талант, самородок. Они познакомились.
Александр Александрович стал первым меценатом, принявшим участие в судьбе Анатолия Зверева. Он приютил его у себя в доме и познакомил со многими представителями художественного мира столицы. Вскоре юноша попал в дом известного коллекционера Георгия Дионисовича Костаки, который был не только собирателем произведений русского авангарда 20-х гг., но и живо интересовался творчеством современных художников московского андеграунда. Именно здесь Зверев начал проводить свои виртуозные художественные сеансы. Рисовал много, жадно, истово, рождая нередко за одну ночь по нескольку десятков работ. Часто присутствовавший на зверевских сеансах известный дирижер Игорь Макаревич вспоминал: «Во время работы Зверев достоин камеры Клузо. Им овладевает исступление: рука, как бы управляемая приказом, выбрасывает бурный поток образов, за которым едва успевает мысль. И такая быстрота переходов мысли, что некоторые картины Зверева тому, кто видит их рождение, представляются художественными энцефалограммами». Это были портреты самого хозяина дома – Г. Костаки и его гостей, представителей московского бомонда и художественной интеллигенции, натюрморты, пейзажи, графические иллюстрации к произведениям литературы.
Художник мог работать чем угодно, используя для этого любые подходящие, по его мнению, предметы. Его коллега Дмитрий Плавинский рассказывал: «Анатолий работал стремительно. Вооружившись бритвенным помазком, столовым ножом, гуашью и акварелью, напевая для ритма: «Хотят ли русские войны, спросите вы у сатаны», – он бросался на лист бумаги, обливал бумагу, пол, стулья грязной водой, швырял в лужу банки гуаши, размазывал тряпкой, а то и ботинками весь этот цветовой кошмар, шлепал по нему помазком, проводил ножом 2–3 линии, и на глазах возникал душистый букет сирени!» Подобным образом Зверев создавал и один из своих шедевров, за который получил золотую медаль на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 г. Один из американских корреспондентов, бывший очевидцем этого, писал: «Наши рассчитывали ошеломить русских потоком «агрессивных» абстракций. Сняли пенки с самых авангардных течений и всей этой эклектикой надеялись нокаутировать социалистический реализм. Живописный конвейер вертелся без перерыва. Не успев «прикончить» один холст, хватали следующий. Русские растерялись. Такие темы оказались для них неожиданностью. Воспитанникам академистов ничего не оставалось, как доказывать правоту словами. Спорили энергично. Нас обвиняли в уходе от социальных проблем. Мы возражали: сначала научитесь свободно обращаться с материалом! Это продолжалось до тех пор, пока в студии не появился странноватый парень с двумя ведрами краски и с намотанной на палку тряпкой для мытья пола. Раскатав холст, насколько позволяло помещение, он выплеснул на него оба ведра, вскочил в середину сине-зеленой лужи и отчаянно заработал шваброй. Все не заняло и десяти секунд. Мы замерли от восхищения. У наших ног распростерся огромный женский портрет, исполненный виртуозно, изысканно, с тонким пониманием. Парень подмигнул кому-то из остолбеневших американцев, хлопнул его перепачканной ладонью ниже спины и сказал: "Хватит живописью заниматься, давай рисовать научу!"»
Несмотря на столь ошеломляющую скорость и технику работы, картины Зверева в большинстве своем не были виртуозными поделками. Они поражали мыслью, точностью характеристики, удивительным способом подачи сюжета. В них не было беспредметности, напротив, его живопись отличала фигуративность, узнаваемость, которым не мешали экспрессия и чувственность манеры письма. Особенно интересны в этом отношении портреты матери художника, которые он написал в разные годы. На одном она предстает брейгелевской старухой с обвисшим подбородком и толстыми оттопыренными губами. Гротескность портрету придает преувеличенный до уродства нос с горбинкой. Другой портрет, где она изображена за стиркой белья, полон экспрессии. В нем все – и фигура женщины, и складки одежды, и как бы двоящийся силуэт спины – подернуты рябью, передающей характер движения.
Особым стилевым разнообразием отличаются 34 автопортрета художника. Эти графические работы (тушь, перо) – то импульсивные и мрачные, то гротескные и беспощадные в саморазоблачении, то реалистические.
Во многих работах Зверева проявляется особо темпераментный живописный стиль, который исследователи называют «фигуративным ташизмом». В одном из интервью художник заявлял: «…ташизм, кстати, я изобрел, только никто об этом не знает… еще в ремесленном училище!» Именно в этой манере написаны «Портрет Георгия Костаки» (1956 г.), «Сосны» (1959 г.), «Женский портрет» (1966 г.), портрет «Марфы Ямщиковой» (1979 г.), многие рисунки зверей и животных, которых Анатолий Тимофеевич особенно любил рисовать, а также лепить из серой глины. «Он часто посещал зоопарк, где делал удивительные наброски. Время исполнения – доли секунды. Манера рисования настолько экстравагантна, что разжигает нездоровое любопытство публики. Спящий лев рисуется одним росчерком пера. Линии рисунка – от толщины волоса до жирных, жабьих клякс. Или прерывисты, словно он рисует в автомобиле, скачущем по кочкам. Характер поз, прыжков животных точен и кинематографичен».