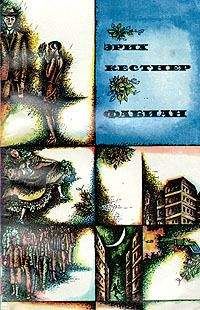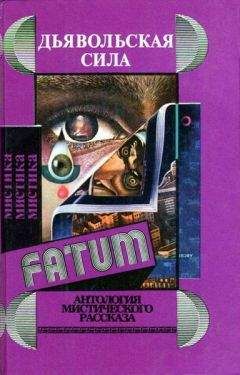Елена Макарова - Движение образует форму
10 июля
…Весь зал с цветами был очень хорош. Хотелось копировать буквально все, но служитель сидел как приклеенный, и я пошла дальше. Музей вдруг кончился (о существовании других этажей, где в это время рисовали наши, я не догадывалась). В парке через дорогу плюхнулась на ближайшую скамейку — перевести дух и подумать, что делать дальше. Больше всего хотелось поехать в гостиницу, упасть на кровать, зарыться носом в подушку и, не успев расплакаться, заснуть до утра. Но тогда в Амброзиану уже не попасть: в понедельник все музеи закрыты. Взяла себя за шкирку и потащилась в метро. Вышла у Дуомо. Толпа туристов и дядька с автоматом на входе отбили всякую охоту заходить внутрь. Витраж, правда, светился очень заманчиво, но толпа с дядькой победили, и я пошла искать Амброзиану. Снова заблудилась (по-другому не умею) и к музею пришла незадолго до закрытия.
Дотронуться до тяжелой двери было страшно: вдруг не пустят, прогонят, да еще на непонятном языке? И как же хорошо, что я ее все-таки открыла! (А могла ведь запросто повернуться спиной и уйти…)
Такое было со мной только в Музее Ван Гога в Амстердаме. Когда перед цветущим миндалем хотелось упасть на колени, и плакать, и смотреть, смотреть… Врасти в картину, остаться там навсегда, стать миндальной веткой, кусочком голубого неба — чем угодно, только не возвращаться…
Мадонны… Написанные по одному канону и все разные. Здорово рассматривать их лица. Медленно, как альбом со старыми, дореволюционными фотографиями… Картина с распятой лягушкой. Холод в спине…
Зал Брейгеля. Цветы на черном фоне…
Музыкант Леонардо… Смотрю долго и пристально, не могу оторваться. Несколько раз ухожу и снова возвращаюсь. Смотритель встречается со мной взглядом и улыбается понимающе…
Последний зал. Библиотека с набросками Леонардо. Сверху глядят на тебя портреты тех, кто имел отношение к этому месту почти тысячу лет назад. Тихо поет хор. Уйти невозможно. Остаться в этом зале навсегда — больше мне в тот момент ничего не нужно…
<…> Ярмарка из Porta Romana уехала — и я едва узнала окрестности. В лавке зеленщика купила персики, клубнику и почему-то зеленый инжир и шла домой. В голове пел хор из Амброзианы. Лечь на кровать, закрыть глаза — и в тот зал… Или к Брейгелю с цветами. (Интересно, помнила о них Фридл, когда писала свой букет, подаренный на последний день рождения?)
— Аня, оглянись! Мы здесь!
Хор замолкает. Оборачиваюсь. Дорогу переходит группа людей. Взгляд тут же находит среди них лицо, так хорошо знакомое и никогда прежде не виденное. Встречаемся глазами — в них недоумение: «Юля, это кто?»
Почему-то я всегда думала, что Е. Г. высокая. Оказавшись рядом, вдруг понимаю, что она ниже меня на полголовы. Как Фридл…
И еще понимаю, что, выбрав, по русской академической традиции, обращение по имени-отчеству, попала в ловушку: имя и отчество здесь ни при чем — она Лена. Это имя — как часть ее самой, любое другое невозможно.
Потом мы доклеивали альбом, дарили его, пили португальское зеленое вино, рассказывали истории…
Маня рисовала закат, и Юлька лежала у нее на ноге.
А еще я пыталась рисовать, и у меня ничего не выходило. В аэропорту я привыкла уже, что если рисуешь, то выходит практически все. Главное — всмотреться. А тут — ничего.
Чтобы не расплакаться при всех, ушла спать».
Запомнить все
«Маня танцует. Нам надо смотреть и запоминать ритм и движения. Вначале танцуют только руки. Они ползут вверх, опускаются, но не падают вниз по закону всемирного тяготения, а зависают в воздухе. Как будто на уровне груди невидимая преграда: руки натыкаются на нее — и замирают. Теперь они неподвижны — танцуют бедра и живот. Потом снова руки и шея. Все как бы по отдельности, по очереди. Потом музыка захватывает меня, и я на какое-то время перестаю видеть Маню, а когда вижу снова — она танцует уже вся, как будто музыка внутри нее, в позвоночнике, руках, кончиках пальцев, лицевых нервах… Как это нарисовать?
Расходимся по аудиториям. Включают музыку. Не ту, что у Мани. Или это без Маниного танца музыка кажется другой? Рисуем углем, потом цветом.
Музыки много, слишком много для меня. Мне хватило бы и трети — но приходится выныривать, идти за следующим листом бумаги, за красками, снова рисовать… Конец. Еще минута такого действа — и со мной случилась бы истерика. Умываюсь холодной водой. Кажется, легче.
Снова собираемся вместе. Рисуем звук внутри нас. Вдруг: «Кто умеет петь?» Зачем-то поднимаю руку. Нераспетая, с колотящимся сердцем, неровным дыханием и зажатыми связками, начинаю выть. Помогло. То, что скопилось внутри и не давало дышать, вырвалось наружу и рассеялось в воздухе. Теперь чувствую, что могу работать дальше.
Рисовали вазы. В этот раз у меня вышла тонкая и легкая, с острыми концами и неровной опорой — вот-вот улетит, или на пол свалится, или порежет кого острым краем — как повезет…
Снова музыка. Теперь танцуем мы. В голове совершенно четкий образ прорастающих семян. (Перед отъездом долго смотрела ролик с замедленной съемкой, теперь он захватил меня снова.) Танцую, превратившись в соевый росток…
Теперь надо лепить. Я не умею. То есть умею кошку или чашку. Ну иттеновский рельеф, наконец. Но музыку? Как слепить музыку?
Тут Маня включает магнитофон, и вопрос исчезает сам собой. Музыка проходит сквозь пальцы и сливается с глиной. Растут стволы, ветки — сначала толстые, потом все тоньше и тоньше…
— Ты подпирай скульптуру, чтобы не падала.
Какую скульптуру? Открываю глаза и вижу тонкие, но сильные пальцы, испачканные синей гуашью. Пальцы берут кусок глины и прилепляют к моему куску с другой стороны. Поднимаю глаза, вижу Ленино лицо совсем близко, так близко, что оно расплывается, как в детстве сквозь мамины очки… Лена уходит, а я понимаю, что у меня закончилась глина. Беру еще и снова погружаюсь в музыку. Но мне не надо больше: я сейчас задохнусь. Вдруг тишина.
— Скузи! — Манин голос из соседней комнаты.
— Манька, ты садистка! Тебе бы так выключили музыку, когда ты танец живота танцевала, — Лена за моей спиной.
А я Мане благодарна. Мне уже тяжело: музыка больше не помещается во мне, вот-вот вырвется. А я не хочу рыдать при всех…
Снова музыка. Глины нет — сминаю последний из вылепленных кусков (я бы их все смяла, но голова говорит, что надо же что-то предъявить в конце, будет же этому конец, и скоро будет…). Музыка.