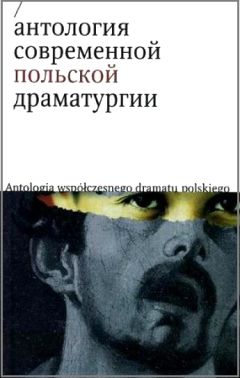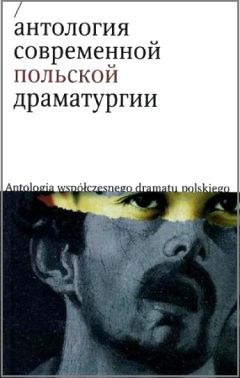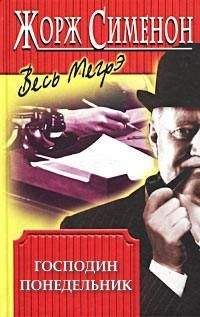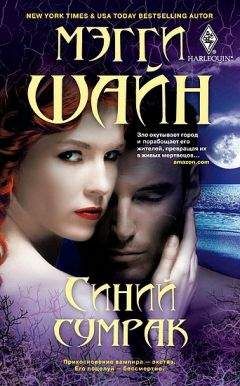Николай Савинов - Жорж Бизе
…Изгнать пруссаков и сохранить Республику! Сейчас тяжело, но надежда во мне растет с каждым днем.
…Надежда, построенная на песке!
Париж покинут правительством. Сначала оно обосновалось в Туре, а 6 декабря военные передряги заставили кабинет перебраться в Бордо.
Стране необходима поддержка извне. Но посланный в несколько европейских столиц Луи-Адольф Тьер так и не смог нигде заручиться хотя бы обещанием помощи.
5 января началась бомбардировка Парижа. Немцы работают методически — с двух часов ночи и до пяти утра: нужно лишить жителей сна.
Парижане укрылись в подвалах. Трошю вновь и вновь повторяет, что столицу необходимо сдать. Для того чтобы убедить в этом население, он предпринимает предательски беспомощную вылазку 80-тысячной армии под Бюзенвалем — и терпит жесточайшее поражение.
Жители города снова требуют проведения выборов в муниципальный совет — Коммуну, — способный дать им оружие и обеспечить оборону столицы. Еще 10 октября Альфред Брейе писал в газете «La Patrie en danger» («Родина в опасности»): «Коммуна — это Париж, защищающий сам себя и изгоняющий немцев из страны. Это — революция, которая бросает в дрожь деспотов и низвергает троны, это — спасение Франции и республики, это пролетариат, освобожденный от капитала. Парижская коммуна — это ужас для трусов, изменников и реакционеров».
Тогда, в октябре, удалось обмануть и разоружить инсургентов. Обойдется ли и сейчас, в январе? В этом Трошю не уверен. Авторитет властей падает, их положение шатко. Лучше сговор с врагами, чем победа народа. На вечернем заседании 22 января Жюля Фавра уполномочили начать новый этап переговоров с Бисмарком. В полной тайне они продолжаются в течение пяти дней. Переговоры настолько успешны для немцев, что Бисмарк сам предлагает прекратить огонь на три недели.
Слухи о переговорах тем не менее просачиваются в печать. Вспыхивают волнения. 27-го правительство дает официальное коммюнике. По улицам проходят манифестации национальных гвардейцев: «Мы не сдадим наших фортов!», «Измена!», «Да здравствует Коммуна!». Национальная гвардия избирает своим главнокомандующим командира 107-го батальона Антуана-Маглуара Брюнеля, а начальником штаба подполковника Пиацца из 36-го батальона. Этой же ночью правительство бросает в тюрьму обоих.
28 января объявляют капитуляцию Парижа.
— Здесь, в Париже, осада была фарсом, но не по вине населения. Оно хотело сражаться до конца, — пишет Гюстав Курбе своему отцу в Орнан. — Виновато правительство… Это оно не желало, чтобы Республика спасла Францию… Вся эта свора мошенников, предателей и кретинов, управлявшая нами, только и делала, что устраивала показные сражения, уложив зазря множество людей. Эти убийцы потеряли не только Париж, но и Францию, парализовав и развалив все, что смогли… Эти негодяи прибегли к пыткам, чтобы заставить население покориться… С самого начала решив капитулировать, они старались прославить себя под предлогом, будто этого требует народ. Они держали на линиях фортов 200000 национальных гвардейцев, хотя там хватило бы и 25000. Перед муниципальными мясными лавками они выстраивали двухтысячные очереди, куда люди становились в шесть вечера, чтобы в десять часов утра получить кусочек конины размером в полкулака. В очередях каждый должен был стоять сам, поэтому женщины, старики и дети проводили зимние ночи на улице и потом умирали от ревматизма и проч… В последний день не было даже хлеба — еще одно мошенничество, потому что на складах гнило четыреста тысяч килограммов продуктов, а нам пекли хлеб из опилок и мякины. За все время бахвал Трошю не отважился ни на одну решительную вылазку, а если Национальной гвардии удавалось захватить позиции, ее назавтра отводили обратно… Настоящие враги не пруссаки — это наши дорогие французские реакционеры и их пособники попы. Г-н Трошю приказывал служить молебны, ждал чуда от святой Женевьевы и предлагал устроить крестный ход. Как вы понимаете, это вызвало лишь смех.
…12 февраля Национальное собрание в Бордо уполномочило Тьера начать мирные переговоры. Предварительный документ был подписан в Версале 26 февраля и ратифицирован 1 марта, после чего кабинет, возглавляемый Тьером, вернулся в Париж.
Когда блокада была снята, супруги Бизе отправились в путь. Это было настойчивым желанием Женевьевы — все время она жаловалась на разлуку с мадам Галеви, посвящая этому многие страницы дневника, и молила Бога помочь ей «посвятить жизнь матери». То была ее новая роль — жертвенного самоотречения, и в нее она свято верила.
Бизе к этому относился с большим уважением, еще не понимая, что возвышенные эмоции были попросту проявлением истерии.
Нелегко было получить пропуск на выезд. Нелегко было и добраться до жилища Ипполита Родрига — хотя путь и не так уж далек, до Бордо от Парижа всего 500 километров. Но это путешествие по стране, искалеченной военной бурей.
Они не знали, однако, что главное испытание ожидает их не в дороге.
— Я провел поистине горькую неделю! Ради спокойствия Женевьевы, ради всех нас, ради себя я рискнул на эксперимент, который, к несчастью, обернулся столь пагубно, что превзошел все мои опасения… В течение последних пяти месяцев Женевьева теряла в весе… После снятия блокады с Парижа сон у нее стал болезненным. Что я должен был сделать? Воспротивиться тому, чтобы Женевьева встретилась с матерью? Неважно, что за это меня бы возненавидели. Но это вселило бы в Женевьеву сомнения и угрызения совести более жесткие, нежели кризис, через который мы только что прошли.
…Бордо — очаровательный старый город, напоенный дыханием моря: оно в ста километрах отсюда. Мадам Галеви чувствует здесь себя превосходно — у нее масса знакомых. «Твоя бедная старая тетя, — пишет она Людовику Галеви 1 января, — видит республиканский двор; город и окраины, плебеи и патриции, реак и демок, все проходят через мой маленький салон. Вот мой сегодняшний день… Встала в четыре. В семь вышла, чтобы купить всякую мелочь, подарки для племянников и племянниц…В девять в амбулаторию. Ни один экипаж не ходит по льду Бордо, что, конечно, прелестно. Лед на земле, солнце в воздухе — я совершенно одна и напротив какой-то мужчина. Все равно. Зову на помощь. К счастью, он оказывается одним из моих родственников. В одиннадцать выхожу из амбулатории. В руках — 25 свертков с подарками: сигары, фланелевые пояса, набитые табаком кисеты, громадная кулебяка с курицей, пирожки, конфеты, сахар…
Час. Я вхожу, изнуренная, и, пожелав доброго Нового года всем моим близким, обедаю с ними. Одеваюсь на скорую руку, иду в префектуру требовать отдельное жилище для моей семьи, племянников и племянниц… Слушаю речь Гамбетты. Его жесты, его увлеченность! Все правительство на балконе. Сорокатысячная толпа внизу, с разинутыми ртами, слушает речь. Когда г-н Гамбетта уходит в салон, публика кричит: «Гамбетта! Гамбетта!» — и затем поет Марсельезу. Пламенная, но спокойная толпа была прекрасна. Никогда в Бордо не было такого праздника!»