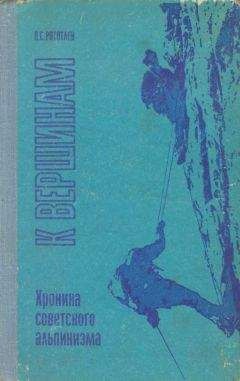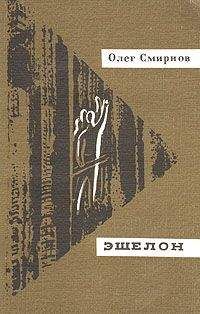Олег Смирнов - Эшелон (Дилогия - 1)
Вот так-то, огромна Москва-матушка, а жить негде. Никакой родни, со знакомыми все связи порваны. Наведаться в коммунальный домишко в Останкине, где жили с мамой и откуда, бросив комнату, она перевелась по работе в Ростов - после ареста Алексея Алексеевича? Вряд ли его, Петра, там помнят. Да, откровенно говоря, и не тянет в тот деревянный, перенаселенный людьми и клопами дом-барак, что-то удерживает. Пока поживем в аудитории, где разместили будущих студентов, а дальше видно будет.
Помог случай. В деканате Петр познакомился с разбитным, ёрничающим парнем-москвичом - они попали в одну учебную группу, - и тот сказал: ты что, богач, чтоб снимать частную комнату, да это и не просто в Москве, давай я поговорю с паханом, устроим на нашей даче. Пахан - это значило отец, а дача находилась в Клязьме, летняя, из досок, ночами в ней было свежо.
Петр заикнулся было о плате, товарищ поднес к его носу кулак.
- Об этом не пикни.
- Но как же... Все-таки...
- Что взять с бедного студента, да еще провинциала? Будешь сторожить дачу - вот и отработаешь.
Товарищ убрал кулак, и было непонятно, шутит он или всерьез. Да, Петя Глушков провинциал, а некогда был москвичом.
Забыл он Москву, а Москва забыла о нем. Может побожиться поростовски, нараспев. Южанин теперь. Из города Ростова. Ростовпапа, Одесса-мама, как говорят урки. Кто-кто, а уркаганы в Ростове водятся. Отсидев лекции, Петр мчался в магазины, выстаивал очереди за снедью, втискивался в битком набитый трамвай, втискивался в вагон метро - ехал до "Комсомольской", - на Ярославском вокзале втискивался в электричку, всюду надо втискиваться. В Клязьме вылезал на платформу, плелся раскисшей от дождей дорожкой по обезлюдевшему, затянутому сумерками поселку, в крайней от глухого, мокрого сосняка даче разжигал печкубуржуйку, стряпал ужин. Ночью просыпался от холода, набрасывал на себя все, что можно, укрывался с головой и, клацая зубами, думал: "А что дальше? Что в октябре или в декабре?" Но еще больше беспокоило: зачем пошел в Бауманский, скучно и чуждо все то, что преподают мне на занятиях маститые профессора и доктора технических наук, не хочу технических наук. А чего хочешь? Отоспаться, отогреться. И - к маме хочу.
А в утренних сумерках Петр трусил на электричку, и глиняные наросты были прихвачены морозцем, и по ледяным корочкам луж мело порошу. Из мглы, ревя белугой, вырывалась электричка. Впору самому ревануть по-белужьи: разнесчастная, вмиг опротивевшая учеба, неустроенный, холодный и голодный быт.
Сесть бы не на загорскую электричку, а на пассажирский поезд Москва Ростов. До Ростова сутки езды, и там тепло, солнечно и: радостно.
Товарищ по группе, славный малый и юбочник, иногда прикатывал на дачу с девицей - каждый раз с другой, - переночевав при бодрящей температурке, любопытствовал:
- Не надоело еще коченеть?
- Мешаю? - Петр кивал на дверь, за которой была очередная девица.
- Дурень. Нисколько не мешаешь.
- Ну, так буду жить...
- Живи хоть до лета. Но как перезимуешь, не загнешься?
- Ерунда, - говорил Петр с раздражением и кашлял: маленько простудился-таки.
- Гляди. С высоты твоего роста тебе видней.
Утром товарищ пилил с ним и колол дрова, пособлял складывать запасец на неделю. Перед обедом уезжал с девицей - были они, точно, разные, но и схожие: губастые, с горячечным блеском блеклых, выпитых глаз в подкрашенных ресницах. Петра они злили и пугали. Попадись им - съедят и не подавятся. А цыплачка вроде Пети Глушкова проглотят с потрохами. Подальше от них.
Правда, и девицы не посягали на него. Ну и слава богу.
А октябрь уже сыпал снегом, выдувал из щелей остатки тепла, леденил и тело, и душу - бедной душе доставалось еще больше, чем телу. Еженощно он видел во сне набережную Дона, двор своего дома - летние мангалы, палисадники с виноградом, розами и мальвами, стеклянную террасу, на которой они с мамой пили чай. На террасе и зимой не было холодно: Ростов-папа южный, добрый, греющий город. Пробуждаясь, Петр надрывно кашлял, чихал, синий от озноба, неумытый - вода в рукомойнике промерзала, - хватал книги, рысил на платформу, продуваемый в кепочке и демисезонном пальтеце насквозь, и над ним каркала воронья стая, сносимая ветром с Клязьмы-реки. Толпа на платформе росла, колыхалась. Ревела электричка. Туда - сюда. День за днем.
От холода, еды всухомятку, тоски он просто-напросто отупел. Матери ни о чем не писал - она была уверена, что он в общежитии.
Да и что писать? Денег просить на частную комнату? Откуда они у мамы, лишние деньги?
Мечтал о самостоятельности? Пропади она пропадом, эта самостоятельность, у мамы под крылышком уютней. Да-да-да, он маменькин сынок, не зря его дразнили. Мечтания о свободе, о независимости обернулись немытой рожей и цыпками на руках. Слабачок ты, Петя Глушков, не зря тебя также интеллигенцией дразнили. Пусть слабак, пусть интеллигенция, но он хочет домой, к матери.
И в конце октября, когда от холода стало невмоготу и простуда окончательно расхлюпала его, он сел в пассажирский вагон, где было скученно и тепло, пожалуй, жарко. Он отогревался и спал, спал. Мысль о том, что едет в пассажирском поезде не на юг, к маме, а на запад, в армию, не очень всплывала в памяти, точнее - он топил ее. На дно ее, на самое дно, прежде всего - отогреться, отлежаться, отоспаться.
Но чем больше отсыпался, тем чаще эта мысль поднималась на поверхность и, превращаясь в вопрос, будоражила, мешала отдыхать: что ж теперь с ним станется, со вчерашним студентом и нынешним новобранцем? Все провернулось в три дня. Вызвали на призывную комиссию - она работала прямо в институте, - пропустили через врачей, остригли под пулевку - и готово. Товарищ, который устроил его на свою дачу, уже отслуживший действительную, втолковывал оторопелому, щупавшему выстриженную макушку Петру:
- Не одного тебя - всех первокурсников забривают, по ворошиловскому призыву...
Это Петр знал и сам. Не знал только: почему восемнадцатилетних решили призывать именно с тридцать девятого года, когда Петя Глушков поступил в институт? Подождали б еще годик, а со второго курса уже не забрали бы. Военкоматы могли бы повременить, да вот вторая мировая не повременила: расползалась, накатывала дымными, кровавыми волнами. Институт? Впрочем, что жалеть об этом институте, чуждом для него? Но в армию идти мало радости, армейские годы придется вычеркнуть из жизни. Что там? Ать-два, коли, руби, стреляй, честь отдавай. И поменьше рассуждать. Старшина, который вез их команду, так и сказал:
- Студенты, загляните в уборную и забудьте там гражданские замашки, потому как в армии не рассуждают, а выполняют приказания.
Ясно, армейская дисциплинка, с прежними привычками предстоит расстаться. Хотя это можно сделать и без посредства уборной. Старшина, видать, остряк. Это армейский юмор?