Рудольф Баландин - Дали
Почему же эти субъекты легко мирились с той формой протеста, которую избрали кубисты, дадаисты, футуристы, экспрессионисты, абстракционисты, сюрреалисты и прочие авангардисты? Почему издавали их труды, выставляли и продавали картины? Даже допускали — хотя бы отчасти — критику церкви и мирились с симпатией многих авангардистов к атеистам и коммунистам.
В чем же дело? Именно в том, что никакого дела, предполагающего свержение несправедливого общественного устройства, авангардисты в своем творчестве не предлагали. Их революционный порыв выражался в формальных ухищрениях. А это лишь развлекало буржуа, добавляло перец, соль и кислинку в их избыточно сладкую и жирную духовную пищу.
Своими первыми картинами, выставленными в Париже, Дали шокировал некоторых сюрреалистов — из тех, кто не вполне разделял теоретические идеи и политический курс Андре Бретона. Так, в конце 1929 года Жорж Батай не изъявил восторга от «Мрачной игры» (или «Игры втемную») Сальвадора Дали.
В этой картине присутствуют многие образы, которые он в дальнейшем будет использовать во многих своих картинах данного периода: гигантская рука, огромный кузнечик, вцепившийся в сомкнутые губы пластичной головы автора, символы пола и кастрации, а также стыда и раскаяния, онанистические и скатологические (связанные с экскрементами) фантазии. Все это выглядит как фантасмагория на темы фрейдизма.
Жорж Батай писал: «Чтобы измерить всю бездну зла, достаточно представить себе маленькую девочку с прекрасными внешними данными, но чья душа была бы мерзким и гнусным отражением идей Дали».
Вообще-то идеи эти принадлежали изначально не Дали, а окружающей буржуазной среде. Здесь немало слюнявых охотников до девочек с прекрасными внешними данными; а чтобы заполучить вожделенную добычу, требуется внедрить юным созданиям обоего пола мерзости и гнусности, которыми щедро потчевал почтеннейшую публику Сальвадор Дали.
По словам Жоржа Батая, «постепенно проявляются противоречивые свидетельства рабства и бунта… Как, кстати, не восхищаться потерей воли, безмозглыми поступками, шаткой неуверенностью, постоянными колебаниями от дозволенной невнимательности к вниманию? Правда, здесь я говорю о том, что уже поросло мхом забвения, когда бритвы Дали вызывали гримасы ужаса на наших лицах. Не исключено, что они вызвали и рвотное состояние, сходное с тем, что ощущают пьянчужки, превратившие рабское благородство в идиотский идеализм. Все это напоминает издевательство надсмотрщиков над каторжниками и оставляет весьма своеобразное впечатление».
Центральная композиция «Игры втемную» («Мрачная игра») показана в виде стилизованной головы осла, возможно, символа животной сексуальности. Здесь же — голова автора с закрытыми глазами, сомкнутыми губами, к которым прицепился огромный кузнечик, и странной кроликоптицы, вылезающей из скулы. Над ней витают эротические фантазии: какие-то пухляки, мужские и женские половые органы, анальное отверстие, лицо бородатого мужчины, напоминающего Фрейда, с влагалищем вместо губ.
Тут же большие и малые шляпы (фрейдистские символы фаллосов), безмятежное лицо женщины, округлые груди, пятна крови, а среди всего этого — священный церковный сосуд и облатка.
Слева на постаменте изваяние мужчины с огромной протянутой ладонью, закрывшего от стыда лицо рукой, в то время как некто другой сжимает его половые органы (символика онанизма?). Внизу — свирепый лев, обнаживший пасть, как олицетворенная страсть.
На переднем плане мужчина с идиотской улыбкой, держащий в одной руке тонкую ткань, а в другой — окровавленный кусок мяса (оскопление?). У него трусы запачканы нечистотами… Экскременты тут вообще в избытке в разных формах. По-видимому, это свидетельствует о пристальном внимании художника к своим естественным отправлениям.
По мнению Аны Дали, «ощущение кошмара… запечатлено на картине Сальвадора «Мрачные игры», наиболее характерной для новой манеры. С этой работы — поворотного пункта — начинается другой Дали».
Другой ли? Откуда бы взялись у него подобные образы, если не из собственного воображения? Получился духовный автопортрет. Художник показал то, что другие предпочитают скрывать даже от самих себя. Недаром он говорил, что вложил в эту картину «тело и душу».
Его сестра была уверена: так проявилось пагубное влияние сюрреалистов. «Странные, злые на весь мир люди!» По ее словам, их обуревала жажда разрушения. «Возможно, брат надеялся, что этот новый путь разрешит все его сомнения и утолит душевную неуспокоенность. Но нет, напротив, с той поры он лишился душевной и духовной гармонии, столь очевидной в его ранних работах. Картины его переменились. Они стали похожи на кошмарные видения. В них появились персонажи, казалось вышедшие из бредовых галлюцинаций: истерзанные, претерпевшие чудовищные пытки, они словно силились объяснить непостижимую ужасную истину, но лишь бередили душу».
Наивно полагать, будто злые сюрреалисты совратили милого и впечатлительного Сальвадора с пути истинного. Чего-чего, а творческой свободы ему было не занимать. Да и начались его бредовые фантазии раньше, чем была создана «Мрачная игра». Достаточно вспомнить «Мед слаще крови» (1925–1927), где есть расчлененное женское тело, разложившийся труп осла, огромная голова с раскрытой черепной коробкой. В работе «Мелкие останки» (1927–1928) представлены расчлененные тела, отсеченные головы, символы половых органов, пятна и потоки крови, разлагающаяся падаль…
Сальвадор Дали в поисках стиля, образов и тем для своих произведений сознательно избрал сюрреализм. Таким было его решение. Именно ему было суждено скандально прославить это течение и самого себя, став наиболее ярким и талантливым его представителем.
Политические маневры
Позже он постарался разъяснить свою позицию как возвышение над политикой во имя искусства: «Политика, как рак, разъедает поэзию. Я своими глазами видел, как многих из моих друзей затягивал политический водоворот и они теряли лицо и губили свои души. По мне же, политика, экономика и все такое прочее — вещи смехотворные, никчемушные, а главное — насквозь лживые… Это капканы, расставленные на художника, силки, из которых не выпутаться тому, кого ведет чувство, а ведь именно такие люди всегда норовят стать на защиту дела, которое им неподвластно, но разрешимо естественным ходом вещей.
Поэзия и искусство — вот две великие жертвы исторического процесса. Отстраниться — таково было мое решение, таков был мой способ самозащиты, вне всякого сомнения, действенный. Таков был долг чести — к нему меня обязывало теплившееся в глубинах моего существа пламя поэзии, редкий и хрупкий дар. Защита собственной личности казалась мне безотлагательной, важной и насущной задачей, никак не менее важной, чем защита интересов пролетариата».
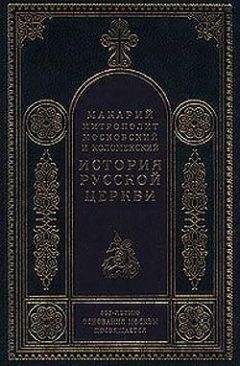

![Алексей Карпов - Владимир Святой [3-е издание]](/uploads/posts/books/45802/45802.jpg)