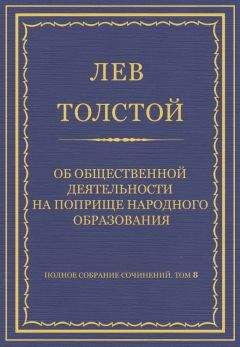Феликс Кузнецов - ПУБЛИЦИСТЫ 1860-х ГОДОВ
Вопрос о преодолении «невежества» народных масс, неразвитости их сознания приобретал для Зайцева, равно как и для всех других публицистов «Русского слова», особое значение. Вопрос этот не мог стоять столь остро перед Чернышевским и Добролюбовым по той простой причине, что они принадлежали другому времени. Их публицистика с большой экспрессией и точностью выразила эпоху революционного подъема, время революционной ситуации, когда руководители освободительного движения были уверены, что они «накануне», когда был намечен даже срок ожидавшегося крестьянского восстания, — весна 1863 года.
Но уже в апреле 1863 года стало очевидным, что надежды на взрыв народного недовольства, крестьянской революционности потерпели полный крах. Ситуация коренным образом изменилась. «Росса повели по пути мирных реформ, причем оказалось, что нет такого пути, по которому Росс не умел ходить» (1863, 4, III, 3), — с горечью комментировал в апреле 1863 года этот факт Зайцев.
Фраза эта многозначительна. В ней объяснение многого, что отличало позиции Зайцева от позиций Чернышевского и Добролюбова. В ней нерв творчества Зайцева, которое все принадлежит этому новому, пореформенному времени, времени черной реакции правительства и глубокой пассивности крестьянских масс. Она выражает глубокую неудовлетворенность Зайцева тем очевидным фактом, что русское крестьянство так и не поднялось на революцию. Вместе с тем она показывает всю степень презрения критика к дороге «мирных реформ», когда в России в «один день возникла гласность, свобода слова, стремление к самоуправлению, политические убеждения, обличение и мало ли чего не возникло», когда «Громека освобождал крестьян», а «Катков учреждал парламент». И вся эта «гора» трескотни и фраз, по определению Зайцева, «благополучно разрешилась от бремени… мышью» (1863, 9,III, 44).
Тем горестнее было сознавать революционерам-шестидесятникам, что даже столь явный обман не заставил крестьянство подняться на революцию.
В одном из первых же номеров возобновленного в 1863 году «Русского слова» с болью говорилось о гнусной черте «рабьего чувства», «рабской преданности своим господам», воспитанной в народе веками крепостного права.
«Мы знаем, что известные причины влекут за собой известные следствия, и поэтому не можем не понимать этого. Мы знаем, что крепостное право между прочими прелестями должно было породить и эту. Но если рабское чувство отвратительно само по себе, то оно делается еще отвратительнее, когда стараются возвести его в идеал добродетели, доказать, что вот оно, благородное-то чувство где» (1863, 3, III, 40), — утверждал журнал.
Именно этот факт — спад крестьянской революционности — и определил спор «Русского слова» с Добролюбовым, который вели Писарев и Зайцев. Считая Добролюбова по праву «самым полным и чистым представителем любви к народу», Зайцев критикует сподвижников Чернышевского за «идеализированное» отношение к крестьянству, за то, что «идеальные, представления о народе вводили Добролюбова иногда в заблуждение и заставляли его слишком много ждать от народа» (201).
Та же мысль звучала и у Писарева, когда он оспаривал статью Добролюбова «Луч света в темном царстве», когда отказывался видеть в стихийном протесте Катерины симптом пробуждения народного самосознания.
Не отказываясь от «живого и деятельного чувства» любви к народу, считая борьбу за освобождение его главным, о чем стоит «заботиться и хлопотать», тоскуя о революционном подъеме, публицисты «Русского слова» мучительно переживают «отсутствие революционности в массах великорусского населения». Они ищут объяснения тому и, не догадываясь об истинных причинах, почему крестьянство не поднялось, да и не могло подняться на революцию, в полном соответствии со своей концепцией истории дают чисто просветительское, идеалистическое объяснение пассивности народных масс. «Народ груб, туп и вследствие этого пассивен: это, конечно, не его вина, но это — так, и какой бы то ни было инициативы с его стороны страшно ожидать» (96), — утверждает теперь Зайцев.
Это не значит, что Варфоломей Зайцев ревизует свой прежний взгляд на то, что «не поэты и не ученые открывают человечеству новые пути, а люди с грубыми руками, дымящие кнастером». Чтобы понять взгляд Зайцева на народ, полезно вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, который писал в одном из писем: «…В слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавкнных, Бурчеевых и т. п., я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием».
Считая себя защитником интересов народа, представляющего собой «идею демократизма», Зайцев, как и Писарев, спорит с идеализацией «народа исторического» — русского крестьянства шестидесятых годов. Его идеал — народ, подготовленный обстоятельствами к протесту, к борьбе.
И в эмиграции, в семидесятых годах, Зайцев снова и снова будет мучительно размышлять о миллионах народных масс, задавленных вековечным рабством: «Давно уже переполнилась всякая мера их страданий, но не переполнилась мера их терпения».
Факт этот настолько трагически воспринимался Зайцевым, что летом 1863 года, в минуту крайнего разочарования в революционных возможностях народа, он даже задавал такой вопрос: «…Если сознана необходимость навязывать насильно народу образование, то я не могу понять, почему ложный стыд перед демократическими нелепостями может… мешать признать необходимость насильственного дарования ему другого блага, столь же необходимого, как образование, и без которого последнее невозможно, — свободы» (96).
Однако это высказывание, в котором чувствуется влияние бланкистских, «заговорщицких» идей, столь популярных в кругу «Молодой России», не характерно для взглядов Зайцева в целом.
Раз «народ… не может по неразвитию поступить сообразно со своими выгодами» — значит, дело в том, чтобы помочь народу получить это развитие, значит, главная задача времени — умственное и нравственное воспитание народа — вот главное направление его размышлений.
В этом суть теории «реализма», выдвинутого публицистами «Русского слова» в середине шестидесятых годов.
У нас долгое время противопоставлялись теория «реализма» и идея крестьянской революционности. В действительности для просветителей, видевших залоги революции в уровне умственного развития масс, теория «реализма», включавшая в себя распространение знаний, пропаганду материализма и утилитаризма, умственную и нравственную эмансипацию личности, не только не противостояла революции, но, напротив, готовила ее.