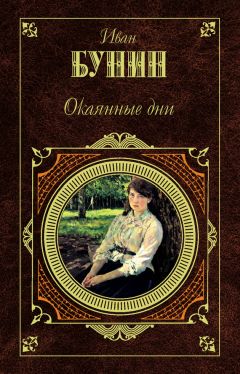Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма
1. VII. 41. Вторник.
С горя вчера все тянул коньяк, ночь провел скверно, утром кровь. Вера бегала в город покупать кое-что для наших узников, потом была в казарме (это километров 5, 6 от города туда и назад). Видела З. и Б. Они ночевали на полу, вповалку со множеством прочих.
Вчера перед вечером и весь вечер грохотало громом. Нынче с утра солнечно, с полудня тучки, редкий дождь изредка. На душе тупая тошнота. Валяюсь и читаю Флобера (его письма 70-го года).
В Эстонии уже горят леса. Думаю, русские будут жечь леса везде.
Вечер, 9 1/2, т. е. по-настоящему 7 1/2. Мутно, серо, мягко, все впадины долины в полосах белесого дыма — оч. тихо, дым от вечерних топок не поднялся.
Не запомню такой тупой, тяжкой, гадливой тоски, которая меня давит весь день. Вспомнилась весна 19-го года, Одесса, большевики — оч. похоже на то, что тогЗ 3., Самойлова, Федорова — этот о своей собаке, «нынче моего сукина сына еще покормят, а завтра? Издохнет сукин сын!» Город прислал в казармы кровати, будет кормить этих узников. Большое возмущение среди французских обывателей тем, что делается.
Как нарочно, читаю самые горькие письма Флобера (1870 г., осень, и начало 1871 г.).
Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится.
Желтоватая, уже светящаяся половина молодого месяца.
Да, опять «Окаянные дни»!
2 VII. 41.
Проснулся в 6, оч. плохо себя чувствуя. В. встала еще раньше и ушла — в казарму, очевидно. Заснул до 8 1/2, сладостр. сны. В 9 телеграмма М. от кого-то. Г. вошла, прося 5 фр. для телеграфн. мальчишки и сказала, что сами русские только что объявили, что они сдали Ригу и Мурманск. Верно, царству Сталина скоро конец. Киев, вероятно, возьмут через неделю, через две.
Приезд в Париж 28 марта 20 г., каштаны, новизна и прелесть всего (вплоть до колбасных лавок…). Какая была еще молодость! Праздничные дни были для всех нас.
3. VII. 41.
Часов в 8 вечера вернулись из казарм Бахр. и Зуров. Там было все-таки тяжело — грязь, клопы; спали в одной камере (правда, большой) человек 30. Сидели и ждали опросов. Но никто ничего не спрашивал. А нынче вдруг приехала какая-то комиссия, на паспортах у всех поставила (пропуск. — О. М.) и распустила всех. Глупо и безобразно на редкость.
5. VII. 41. Суб.
С утра довольно мутно и прохладный ветерок. Сейчас — одиннадцатый час — идет на погоду. И опять, опять, как каждое утро, ожидание почты. И за всем в душе тайная боль — ожидание неприятностей. Изумительно! Чуть не тридцать лет (за исключением десяти, сравнит. спокойных в этом смысле) живешь в ожидании — и всегда в поражении своих надежд!
<…>
12. 8. 41.
Погода все последнее время все-таки неважная. Солнце, облака, ветер с востока. Печет — и прохладный ветер. «Politique Bulgare. Mot d'ordre: lutter contre le bolchevisme[40].
Страна за страной отличается в лживости, в холопстве. Двадцать четыре года не «боролись» — наконец-то продрали глаза. А когда ко мне прибежал на Belvédère сумасшедший Раскольников с беременной женой (бывший большевицкий посланник в Болгарии), она с восторгом рассказывала, как колыбель их первенца тонула в цветах от царя Бориса. <…>
Вести с русских фронтов продолжаю вырезывать и собирать.
Кончил «La porte étroite» Gide'a[41]. Начало понравилось, дальше пошло что-то удивительно длинное, скучнейшее, совершенно невразумительное. <…>
«Москва под ударом» Белого:
— За сквером просером пылел тротуар… — Там алашали… — Пхамкал, и пхымкал… — Протух в мерзи… — Рукач и глупач… И так написана вся книга.
Да, не оглядывайся назад — превратишься в соляной столп! Не засматривайся в прошлое!
Шестой (т. е. четвертый) час, ровно шумит дождь, сплошь серое небо уже слилось вдали с затуманенной долиной. И будто близки сумерки.
Семь часов, за окнами уже сплошное, ровное серое, тихо и ровно шумит дождь. Уже надо было зажечь электричество.
22. 8. 41. Пятница.
В прошлую пятницу (15, католическое Успенье) был в Cannes. Уже не помню, купался ли. Возвратясь, шел домой, сидел, смотрел на горы над Ниццей — был прекраснейший вечер, горы были неясны, в своей вечной неподвижности и будто бы молчаливости, задумчивости, будто бы таящей в себе сон, воспоминания всего прошлого человеческой средиземной истории.
Прочел в этот вечер русское сообщение: «мы оставили Николаев». <…>
Рузвельт сказал, что, если будет нужно, война будет и в 44 году.
Сейчас (около полудня) газета: итальянск. газеты пишут, что война будет длиться 10 лет! Идиотизм или запугивание? Да, Херсон взят (по нем. сообщению), Гомель тоже (рус. сообщение).
Война в России длится уже 62-й день (нынче).
Олеандры в нынеш. году цветут у нас (да и всюду) беднее — цвет мельче, реже. И уже множество цветов почернело, пожухло и свалилось.
Как нарочно, перечитываю 3-й т. «В[ойны] и м[ира]», — Бородино, оставление Москвы.
Ветер с востока, за горами облака, дует, довольно прохл. в приоткр. окна. Но в общем солнечно.
24. 8. 41. Воскр.
Вчера Cannes, купался. Никого не видал.
Юбочки, легкие, коротенькие, цветистые, по-старинному простые, женств., которые носят нынешнее лето. Стучат дерев. сандалиями.
Немцы пишут, что убили русских уже более 5 миллионов.
С неделю тому назад немцы объясняли невероятно ожесточенное сопротивление русских тем, что эта война не то, что во Франции, в Бельгии и т. д., где имелось дело с людьми, имеющими «l’intelligence»[42], — что в России война идет с дикарями, не дорожащими жизнью, бесчувственными к смерти. Румыны вчера объяснили иначе — тем, что «красные» идут на смерть «под револьверами жидов-комиссаров». Нынче румыны говорят, что, несмотря на все их победы, война будет «непредвиденно долгая и жестокая».
Днем нынче было соверш. палящее солнце — настоящий провансальский день.
28. 8. 41. Четверг.
Был André Gide. Оч. приятное впечатл. Тонок, умен — и вдруг: Tolstoy — asiatique. В восторге от Пастернака (как от человека — «это он мне открыл глаза на настоящ. положение в России»), восхищ[ался] Сологубом.
Вечером известие, что Персия сдалась.
Вчера: ранен Лаваль (на записи волонтеров франц., идущих воевать с немцами на Россию). <…>
Gide видел Горького, но в гробу.
В Париже выдается литр вина на человека на целую неделю.
30. 8. 41. Суб.
С утра солнце, потом небо замутилось, совсем прохладно. Ночью ломило темя и трепетало сердце — опять пил на ночь (самод[ельную] водку)!