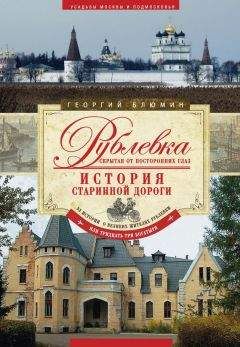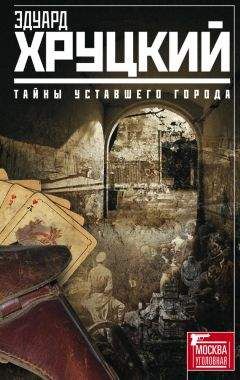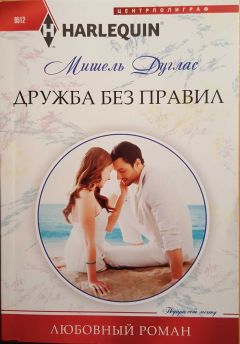Владимир Буданин - Кому вершить суд
— Господа судьи! — начал Красиков негромко. — Спустя несколько минут вы удалитесь на совещание, чтобы, оставшись с глазу на глаз с законом и собственной совестью, решить судьбу моего подзащитного и поставить приговором последнюю точку в процессе. Будущим Трегубова я ничуть не обеспокоен, — во всяком случае, имея в виду исход настоящего дела. Сознаюсь, у меня никогда не было опасений по этому поводу. Да простится мне прямота — вздорность обвинения столь очевидна, что…
— Господин защитник, не забывайтесь! — Барон фон Траубенберг был не на шутку разгневан. — Соблюдайте приличия!
— Виноват. Но разве обвинительная речь не удостоверяет моей правоты? Прокурор в политическом процессе, по сути, отказывается от обвинения! Это ли не свидетельство вздорности той затеи, в какой мы участвуем? — Заметив, что барон открыл рот, Красиков опередил его: — Все, все, господин председатель. Слово «вздорность» более не сорвется с моих уст. — Он перешел к завершающей части речи: — Как видите, высокочтимые господа судьи, вина моего подзащитного ничем не доказана. И меня посему ничуть не удивила позиция обвинителя.
Не глядя в зал, Петр Ананьевич спиной и затылком улавливал волнение публики. На него были нацелены отнюдь не сочувственные, скорее, напротив, враждебные взгляды дам и господ, занимавших скамьи для публики. Стоял недобрый гул. «Погодите же, милостивые государи, — ощущая, как зреет в душе почти позабытое уже опрометчиво-воинственное ликование, подумал Красиков, — сейчас у вас появится повод негодовать!»
— И вот я спрашиваю, в чем суть предостережения господина прокурора? — Он повернулся к публике. — Господин прокурор полагает предосудительной способность гражданина государства Российского видеть отсталость и дикость наших порядков и ничем не стесненный произвол полиции и прочих властей. Прислужники отечественного и иностранного капитала расстреливают доведенных до отчаяния безоружных рабочих. Ныне каждому честному русскому человеку, наделенному зрением и слухом, невозможно без боли вспоминать о трагедии на Лене. Боль эта многократно усиливается при мысли, что члены правительства с думской трибуны…
— Господин Красиков, прошу вас!.. — вскрикнул барон.
— …с думской трибуны возвещают перед всей Россией: «Так было — так будет!» Даже «Биржевые ведомости», эта никак не радикальная газета, открещивается от преступления на Лене. Почему бы в таком случае не предостеречь издателей «Биржевки»? Охранка пока до этого не додумалась. А вот Трегубова, благо он предстал перед судом, предостережем! «В его лета не должно сметь свои суждения иметь»! Предостережем от крамольных мыслей о возможности такого преобразования России, чтобы она, чего доброго, не встала в один ряд с Европой. Мы — не Европа, мы — Россия! Да сохраним во веки веков верность незабвенному и милому сердцу крепостному праву!
— Господин защитник! — Барон сделался малиновым. Он с остервенением тряс колокольчик. — Предупреждаю… предупреждаю в последний раз!
— Я кончил, господин председатель.
Не прошло и часа, как в вестибюле появился судебный пристав гренадерского роста и стал приглашать публику в зал:
— Господа, заходите. Поторопитесь, господа!
Как и следовало ожидать, Трегубов был оправдан. Петр Ананьевич вышел на Литейный, испытывая одновременно и удовлетворение — его подзащитного оправдали, — и досаду, ибо ему было понятно, что на его долю выпала роль статиста в скорее печальном, нежели веселом водевиле с неизбежным благополучным финалом.
Шел первый снег. Крупные хлопья лениво, как бы нехотя, предвидя свою обреченность, планировали над брусчаткой мостовой, над плитами тротуаров и, едва коснувшись их, таяли.
Михаила, его родню и друзей ждали две извозчичьи пролетки. Петр Ананьевич наблюдал, как возбужденно и шумно рассаживалась компания Трегубова. О нем, защитнике, в минуту торжества никто из них не вспомнил. Но его ничуть не покоробило их равнодушие.
Что ему до них, как и им до него? Душа Петра Ананьевича была заполнена другим. Ему следовало поторопиться домой. Там его ждала Наташа. Жена…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Между прошлым и будущим
Горела Судебная палата. Из высоких окон валил дым, подсвеченный пламенем. Пылала парадная дверь за чугунной фигурной решеткой. Персонажи «Соломонова суда» поджаривались на огне, словно грешники в аду. В воздухе носились обрывки судебных дел. Бело-розовые стены покрывались копотью. Поэтому, должно быть, здание выглядело как будто более тяжелым и громоздким, чем в «спокойные» времена. На Литейном — от Сергиевской до Невы — и на Шпалерной — от проспекта до тюрьмы — половодье кацавеек, тулупов, бушлатов, шинелей. Красные нарукавные повязки, винтовки, пулеметные ленты…
Со стороны «Шпалерки», где люди у каменной стены сбились особенно тесно, внезапно донесся слившийся воедино мстительный рев сотен глоток. Народ смял охрану, распахнул массивные тюремные ворота, прорвался внутрь, освобождая арестованных. На перекрестке нет городового с жезлом. И вообще нигде не видно ни полицейских, ни жандармов, ни городовых — словно грозовым дождем смыло. Зато везде вооруженные матросы и солдаты. Да и рабочие с красными повязками на рукавах держат винтовки, как будто это их повседневный инструмент…
Вчера вечером в квартире Петра Ананьевича — он уже несколько дней из-за простуды никуда из дому не выходил — по обыкновению, собралась большевистская публика. Первым пришел Петр Иванович Стучка. Он достал из кармана и сунул Красикову письмо из Риги, стал рассказывать, что у него на родине тоже начались волнения. Забастовали металлисты и портовые грузчики, их поддержали студенты. Невозмутимый и уравновешенный Стучка был возбужден и многословен, восхищался земляками, твердил, что ему, быть может, предстоит вскоре «самая лучшая поездка в Ригу».
Несколько позднее явились Козловский и Соколов. Начался общий разговор. Один лишь Николай Дмитриевич отмалчивался.
Вот уже три дня, с момента очередного ареста Елены Дмитриевны, Соколов пребывал в печальном унынии. Несмотря на возраст свой и изменчивость в увлечениях различного свойства, этот почти пятидесятилетний человек сохранил по-юношески целомудренную верность давнему поклонению Елене Дмитриевне. Это была не влюбленность, не мужская страсть, а нечто возвышенно-поэтическое и самозабвенное. Уж как ни резко иной раз обрывала его Стасова, как ни высмеивала его интеллигентскую половинчатость, он не только не восставал против этого, но даже роптать и обижаться не смел. И тем не менее он все более отдалялся и от Елены Дмитриевны, и от ее товарищей.