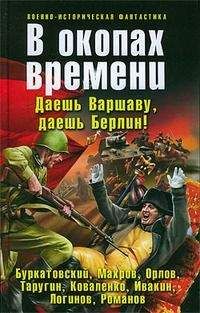Яков Гордин - Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского
Это ровное – пушкинское – дыхание, посетившее нервную, иногда до истерического крика, полную горечи и смятения мистерию, выдает ту полуосознанную еще цель, о которой только что шла речь. Это – островок гармонии, интонационный камертон, указание на ту задачу, которую поэт будет решать – для себя и для мира.
Дело не в том, чтобы обнаружить похожесть Бродского на русских классиков. Само по себе это ни о чем не говорит. Дело в том, чтобы увидеть в работе Бродского черты той фундаментальной духовной основы, на которой и существует русская культура.
В 1835 году Пушкин написал большое стихотворение «Странник», о человеке, осознавшем убийственное несовершенство мира и, главное, свое собственное несовершенство. От душевной муки и растерянности страдальца спасает ангел, представший ему в виде юноши с книгой:
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь», —
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет», – сказал я наконец.
«Иди ж, – он продолжал, – держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» – И я бежать пустился в тот же миг.
Лейтмотив последних лет пушкинской жизни – бегство, уход от низкой суеты, движение к «некоему свету». Так же как и лейтмотив последних десятилетий жизни Толстого. Так же как идея, быть может, ключевого стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…».
Бродский же начал с того, чем кончали его духовные предшественники. Первое стихотворение, прославившее его, – «Пилигримы» – повествование о паломниках, вечно идущих куда-то. Это стихотворение 1959 года задало один из ведущих внешних сюжетов Бродского – движение в пространстве среди хаоса предметов. Пространство раз и навсегда выдвинулось на первый план, оттеснив время. Поэтому невозможно говорить об «исторической тематике» стихов Бродского. Никакой истории как процесса в его стихах нет. Он живет в великом настоящем, объединившем времена, – наиболее убедительное свидетельство тому «Письма римскому другу» и «Двадцать сонетов к Марии Стюарт».
Этот принцип движения в пространстве как сюжетообразующий в значительной степени объясняет и рождение только Бродскому присущего приема шквального перечисления предметов, мелькающих перед взором движущегося наблюдателя. В «Пилигримах» этот прием продемонстрирован впервые:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Прием был доведен до абсолюта в «Большой элегии Джону Донну» и огромном стихотворении «Пришла зима…». Он играет немалую роль в «Зофье», «Исааке и Аврааме», «Столетней войне» и многих поздних стихотворениях. Но изначально и сущностно он связан с идеей движения, бегства, странствия – сперва без определенной конечной цели.
В 1960 году написано чрезвычайно важное по смыслу стихотворение «Сад», с такой декларацией:
Нет, уезжать! Пускай куда-нибудь
меня влекут громадные вагоны.
Мой дольний путь и твой высокий путь —
теперь они тождественно огромны.
Прощай, мой сад!
Здесь уже есть мотив, который станет одним из главных для Бродского, – слитность индивидуальной судьбы и природного пространства мира. Вскоре появится цикл стихотворений о всадниках, загадочно пересекающих пространство, предваряющих всадника из «Столетней войны».
Сущностью «пророческого» пласта русской литературы, к которому несомненно принадлежит Бродский, желает он того или не желает, предопределено стремление к максимуму – во всем. Этот всеобщий максимализм, в высшей степени свойственный молодому Бродскому, стал едва ли не главной причиной, по которой советская жизнь, основанная на конформизме, отторгла его, и тот же принцип формировал поэтическую стилистику, характер литературных приемов.
У Бродского, как и у Толстого, все, свершенное в зрелости, отчетливо было заявлено в самом начале. В «Пилигримах» уже названы два понятия, ставшие надолго символами поэзии Бродского, символами, сконцентрировавшими в себе смысл ведущей тенденции:
звезды встают над ними, и
хрипло кричат им птицы…
Звезды и птицы – символ «некоего света» в вышине, маяка, путеводной меты и символ преодоления пространства, овладения той его областью, в которую человек не может проникнуть сам по себе, – овладения высотой, возможностью вертикального движения. Роли, которую играют в стихах Бродского птицы, нет аналогии в русской поэзии. Тут можно вспомнить разве метафорических ласточек Мандельштама, но у них принципиально иная функция.
«Большая элегия Джону Донну», занимающая совершенно особое место в поэтической жизни Бродского, родилась, вылупилась, как из яйца, из раннего стихотворения о птице-душе «Теперь все чаще чувствую усталость…»:
Вернись, душа, и перышко мне вынь!
Пускай о славе радио споет нам.
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета?
Покуда снег, как из небытия,
кружит по незатейливым карнизам,
рисуй о смерти, улица моя,
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.
Главное сюжетное зерно «Большой элегии» здесь. Вплоть до значащих деталей:
…покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда.
Собственно, весь монолог души Джона Донна в «Элегии» есть ответ на вопрос:
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета?
Но за три года, что прошли между двумя этими стихотворениями, представления поэта чрезвычайно усложнились, и вряд ли он в 1960 году рассчитывал на ответ, который получил в 1963-м.
У Бродского в русской поэзии был только один предшественник в этом опасном стремлении видеть мир сверху и – весь. И, соответственно, понять его одним гигантским усилием – весь. И оттуда, с этой высоты – судить. Этим предшественником был Лермонтов[63], органические связи с коим Бродского еще не исследованы и не поняты. А это, быть может, его истинный предшественник и учитель. В данном случае я имею в виду пролог к «Демону»:
И над вершинами Кавказа
Изгнанник Рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу, чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял…
Этот грандиозный пейзаж с птичьего полета отнюдь не самоценен – Лермонтов открывает нам пространство, достойное грядущей драмы – смертельного столкновения искушенного Зла, тяготеющего к добру и любви, и Невинности, бессознательно тяготеющей к мудрому Злу. Кавказ для Лермонтова был квинтэссенцией мира вообще, сценой, где и разворачивается мировая драма, движимая, соответственно, концентрированными страстями. Лермонтовский «Демон» – трагедия невозможности примирения антагонистических мировых начал, как бы ни хотелось этого их носителям.