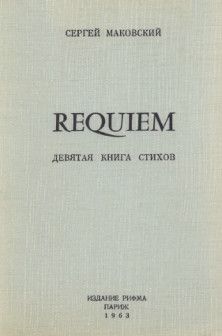Сергей Маковский - Портреты современников
Сколько раз с какой-то завистью говорил он мне о выработанности французами звукочередования в стихах, да и в прозе. Доходил до мелочей. Например, возмущался русской небрежностью в выборе имени при крещении. Как это его, Анненского, нарекли Иннокентием? Варварски звучит: Иннокентий Анненский! У французов всегда: Поль Верлэн, Шарль Бодлэр, Виктор Гюго и т. д. А тут — удивительная нечеткость слуха:
— «У вас, Сергей Маковский, хоть ей-ий, а у меня — ий-ий.
Анализируя чье-нибудь стихотворение, он особенное внимание обращал на буквенное звучание слов. Например, говоря о «Тихой колыбельной» Федора Сологуба, замечает: «Помните вы эту «Тихую колыбельную»? — Вся из хореев, усеченных на конце нежно открытой рифмой. На ли, ю, ду, на и динькающей — день — тень, сон — лен или узкой шепотной — свет — нет.
Сколько в этой элегии чего-то истомленного, придушенного, еле-шепчущего, жутко-невыразимо-лунного:
— Сон, ты где был? За горой.
Что ты видел? Лунный свет.
— С кем ты был? С моей сестрой.
— А сестра пришла к нам? — Нет.
Я тихохонько пою
Баю-баюшки-баю…
Или после цитаты известной Сологубовской строфы:
Упала белая рубаха
И предо мной обнажена,
Дрожа от страсти и от страха,
Стоит она…
Анненский убеждает: «Только вы не разбирайте здесь слов. Я боюсь даже, что вы найдете их банальными. — А вот лучше сосчитайте-ка, сколько здесь а и полу-а — посмотрите, как человек воздуху набирает от того, что увидел, как у ведьмы упала белая рубаха? Кто разберет, где тут соблазн? где бессилие? где ужас?».
Потому-то поздняя французская поэзия и была его любимейшей. Он раз навсегда очаровался ее изысканным благозвучием, аллитерациями, ассонансами, верлэновской «de la musique avant toute chose», строфой Сюлли Прюдома (в его изумительном переводе):
Над гаснущим в томительном бреду
Не надо слов, — их гул нестроен.
Немного музыки — и тихо я уйду
Туда, где человек спокоен.
Кажется, он один, из русских поэтов, разбирался безупречно во всех тонкостях французского силлабо-тонического строя. Он говорил мне, как знаток, свои соображения об александрийском стихе, об истории цезуры в нем и о тайнах его ритма у разных авторов — соображения, никому не приходившие тогда в голову (высказанные только лет тридцать спустя Морисом Граммовом).
Однако франкоманство не мешало Анненскому пользоваться словарем чисто-народной речи, прозаизмами и словечками разговорными, уменьшительными и бытовыми, отдающими некрасовским колоритом: ишь-ты, ну-ка, где-уж и т. д. Сочетанием иностранных заимствований с простонародными оборотами он особенно дорожил, и как характерно это для всего склада его личности, пронизанной средиземноморской культурой и, вместе, такой до предела русской!
Не знаю, был ли Анненский очень одарен, как инструменталист стихотворной строки… Стихам его зачастую недостает текучести: «не льются»; надо помногу раз вчитаться в них, чтобы за внешней угловатостью услышать внутреннюю музыку; на его пиррихиях спотыкаешься, соседство согласных не всегда благозвучно… Тут при многом, конечно, и чисто-технические навыки, Анненский начал писать стихи еще в отроческие годы, но техника его вырабатывалась медленно, и до самой смерти не переставал он работать упорно над тем, что принято называть «формой» в поэзии. В. Кривич, в предисловии к изданию Посмертных стихов отца (1923, изд. «Картонный Домик») так говорит об этой формальной его добросовестности: «Необыкновенно легко владевший стихом, Анненский в то же время был поэтом и чрезвычайной требовательности к себе, и очень капризным. Стихи свои он исправлял, изменял и переделывал по много раз, и не только во; время черновой работы, но и в беловых экземплярах, и даже в позднейших списках, причем из сопоставления текстов иногда можно видеть, что замена одного слова другим или видоизменение целой строки объясняется не внутренними свойствами или внешним построением стихотворения, а были сделаны главным образом потому, что такое изменение отвечало желанию поэта в данный момент». «Анненский часто писал свои вещи заново по несколько раз и в разное время, благодаря чему некоторые стихи имеют по два и более черновиков, — частичных и целых»…
Звуковой пуризм был, отчасти, и рисовкой Анненского-эстета. На самом деле, разве внешним звуком живы его стихи? В них никогда звук не преобладает над смыслом — даже в таких, на первый взгляд, звуковых стихах, как например, «Старая усадьба» (из трилистника «Старой тетради»).
Характерны в этом стихотворении образы Анненского-символиста и вообще вся манера его чувствовать и выражать: слова не сами по себе и не обозначенные словами реальности, а то, что между словами и притом — психологически сущее, пережитое. Анненский всегда на земле и всегда где-то в иной духовной действительности, это двоеречие придает произносимым словам как бы новый смысл: они насыщаются смыслом всего, что угадывается сквозь них, за ними. И от краткости, от лаконизма словесных средств только просторнее возникающим образам.
Сердце дома. Сердце радо. А чему?
Тени дома? Тени сада? Не пойму.
Сад старинный — все осины — тощи, страх!
Дом — руины… Тины, тины что в прудах…
Что утрат-то!. Брат на брата… Что обид!..
Прах и гнилость… Накренилось… А стоит…
Чье жилище? Пепелище?.. Угол чей?
Мертвой нищей логовище без печей…
Ну, как встанет, ну, как глянет из окна:
«Взять не можешь, а тревожишь, старина!
Ишь затейник! Ишь забавник! Что за прыть!
Любит древних, любит давних ворошить…
Не сфальшивишь, так иди уж: у меня
Не в окошке, так из кошки два огня.
Дам и брашна — волчьих ягод, белены…
Только страшно — месяц за год у луны…
Столько вышек, столько лестниц — двери нет…
Встанет месяц, глянет месяц — где твой след?..
Тсс… ни слова… даль былого — но сквозь дым
Мутно зрима… Мимо, мимо… И к живым!
Иль истомы сердцу надо моему?
Тени дома, шумы сада? Не пойму…
В шестистопных хореях «Старой усадьбы» почти везде — тройная рифма или консонанс. При этом нет звуковой декоративности. Словесное звучание совпадает с образным рисунком… До чего весь Анненский тут. в этой музыке слов, вызывающей целый ряд обертонов, — прислушиваясь к ним мы ощущаем, как некое наваждение, сущность самого поэта — и печаль его смертельную, и насмешку над собой, и мечтательную оглядку на пройденный путь, и ужас перед всем мертвым, оживающим с колдовской властностью: