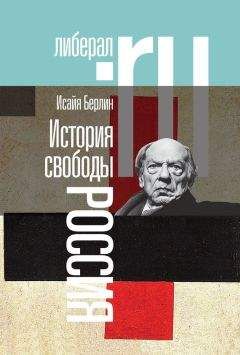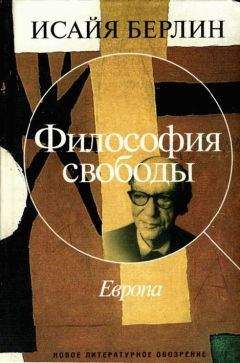Владимир Гиляровский - Москва газетная
А вышло так, что, не будь я гимнастом, не участвовать бы мне в нашумевшем на весь мир событии.
Сербия в это время, в 1897 году, была маленьким княжеством, населенным прекрасным трудящимся народом. Она управлялась после убийства князя Михаила Обреновича его племянником Миланом, вступившим на престол четырнадцатилетним с дурными пороками юношей.
С детства опекуны воспитывали Милана в Париже, где он не столько изучал науки, сколько веселился. Докняжив до 21 года, Милан задумал жениться, и ему подсватали бессарабскую красавицу с огромным состоянием, дочь русского полковника Наталью Кешко.
Милан рассчитывал на приданое, но умная Наталья удержала за собой право распоряжения своим состоянием, и Милан опустошал расходами на свой двор казначейство Сербии, которая после двух войн (1876 и 1877/78 годов) была в 1882 году из княжества провозглашена королевством, к великому неудовольствию народа, боявшегося увеличения налогов.
Налоги на содержание короля возросли, Наталья денег не давала, и Милан стал ее врагом. В королевстве образовались две партии – Милана и Натальи. Милан окончательно запутался в долгах и ухитрился заложить почти все свое королевство в австрийских банках.
Народное недовольство росло. Милан, запутанный банками, попал в зависимость Австрии, стал проводить ее политику.
Сербии грозило банкротство, и окончательно запутавшегося в долгах и интригах Милана заставили передать королевскую власть своему малолетнему сыну Александру и его регентам.
Милана «выслали» из пределов Сербии с обязательством не возвращаться до совершеннолетия сына и выдали ему миллион франков отступного.
Регенты выслали также и Наталью, но она скоро вернулась, завладела воспитанием сына и фактически стала королевой.
В это время я и попал в Сербию. Король Александр тогда не был еще женат на сербке Драге.
Первого июня начались торжества освящением знамени «Душана Сильного», а затем на площади крепости в присутствии тысяч народа начались гимнастические игры и состязания гимнастов, собравшихся со всех славянских земель.
Белградские соколы-душановцы, более пятисот человек, были в своей красивой форме, а провинциальные члены общества в своих национальных костюмах: сербы-магометане – в фесках, сербы-горцы – в коричневых грубого сукна куртках, с кинжалами и пистолетами за строчеными поясами. Было несколько арнаутов. Один, бывавший в Батуме и на Кавказе, говорил по-русски.
Мы с ним беседовали. Он звал меня поехать к нему в гости, в Албанию, куда европейцев в то время не пускали. Он обещал мне полную безопасность у себя в стране, где был каким-то старшиной, и дал свой адрес и адрес его земляка, жившего в Белграде, к которому я мог бы обратиться.
Самыми яркими были сремские горцы, обвешанные оружием, в шитых украинских рубахах, чумарках и бараньих папахах, лихо сдвинутых на затылок.
Из-под папахи змеились длинные чубы, черневшие на бритых головах, у пожилых висели громадные усищи вниз – совсем наши запорожцы далеких времен!
Эти сремцы были потомками запорожцев, бежавших при Екатерине во время разгрома Сечи частью на Кубань, а частью в Турцию. Они заботливо хранили свои обычаи и одежды.
Славный был народ, молодец к молодцу, ходили неразлучно, кучкой, и все были прекрасные гимнасты.
Три дня продолжались состязания, заканчивавшиеся каждый день обедом участников состязания и загородными поездками на пароходе по Дунаю. Обеды сопровождались речами, от которых корчились австрийские сыщики.
На третий день раздавались награды лично королем, и когда первым было объявлено мое имя, имя русского, – а к русским тогда благоволили, – весь цирк, где происходило заседание, как один человек встал, и грянули «ура» и «живио».
Я получил первую награду – большую золотую медаль, меня окружили сербские женщины и подарили мне подарок: шитый золотом шарф.
Вечером в гостиницу Гранд-отель пришла депутация с приглашением меня, как получившего награду, на ужин.
Я оделся и вышел на улицу, где с факелами и знаменами меня встретили душановцы и, скрестив надо мной два знамени, повели меня среди толп народа на ужин.
На другой день я принадлежал самому себе и с двумя из новых друзей-душановцев гулял в крепостном саду.
Чудесный вид открывался с этой высокой, укрепленной горы старой турецкой крепости с ее подземными тюрьмами и бездонными колодцами, куда в старину бросали преступников.
Под нами сливались громадные реки: Дунай и Сава, и долго еще в общем русле бежали две полосы – голубая и желтая. Красота была поразительная, а за рекой виднелись мост в Землин, поля и сады Венгрии.
Удивительной красоты место, напоминающее откос в Нижнем Новгороде над слиянием Волги и Оки!
Мы гуляли с публикой по саду. Содержащиеся в казематах крепости каторжники также гуляли между публикой, позвякивая цепями, и никто не подходил к ним, никто не заговаривал с ними, зная, что этого нельзя, – таков закон.
Невдалеке от нас на садовой скамейке сидел часовой с ружьем в руках, кругом гуляла публика, кандальники работали в цветниках, а один из них самым спокойным манером намыливал лицо часовому, брал у него из рук бритву и брил его.
На другой день я выехал в Россию. На вокзале меня провожали с музыкой и почетным караулом.
Прошло два года. Я вел репортерскую работу, редактировал «Журнал спорта» по зимам, чуть ли не каждую пятницу выезжал в Петербург на «пятницы К.К. Случевского», где собирались литераторы, издававшие журнал «Словцо», который составлялся тут же на пятницах, и было много интересных, талантливых людей из литературного общества столицы, и по осеням уезжал в южнорусские степи на Дон или Кавказ.
Больше всего в этих местах я метался из зимовника в зимовник задонских степей, ночуя иногда даже в грязных калмыцких кибитках.
Здесь я переживал далекое прошлое, объезжал, как простой табунщик, неуков, диких лошадей, прямо у табуна охотился в угон за волком с одной плетью. Бывало:
По курганам, по бурьянам
На укрючном маштаке
На табун лечу с арканом
В разгулявшейся руке…
Огромное количество материала давали мне мои поездки в южнорусские степи.
Репортерство бросило меня и в конский спорт.
В 1882 году редакция командировала меня дать отчет о скачках, о которых тогда я и понятия не имел.
С первого же раза я был поражен и очарован красой и резвостью скаковых лошадей. Во время моих поездок по задонским зимовникам еще почти не было чистокровных производителей, а только полукровные. Они и тогда поражали меня красотой и силой, но им далеко было до того, что я увидел на московском ипподроме.
Как журналист я имел право входа в трибуны, где перезнакомился со скаковым миром, встречался раза два с приезжавшими в дни больших призов гвардейскими ремонтерами, которым когда-то показывал лошадей на зимовнике.