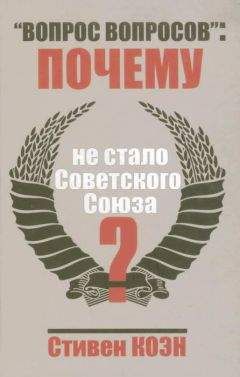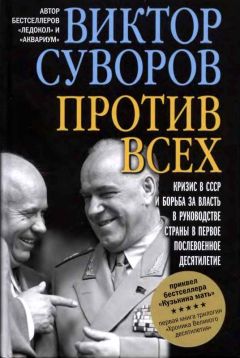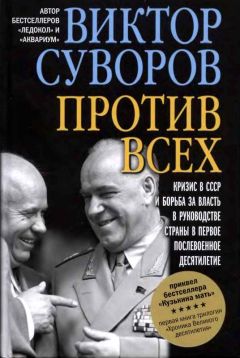Михаил Соловьев - Записки советского военного корреспондента
В тот же день я зашел в Пироговскую больницу навестить Сергея Р. Он лежал в палате у самого окна. Был ранен в ногу.
— Что за странный ход ты сделал? — спросил я, пожимая его горячую руку. — Пойти в ополчение, когда у тебя такое имя и положение, это, знаешь ли, выше моего понимания:
— При чем тут твое понимание? — пожал плечами раненый. — Все шли и я пошел. Чем я лучше или хуже других?
Мне было жалко Сергея, но я не удержался, чтобы не съязвить:
— Энтузиазм одолел? — спросил я.
— Замолчи! — рассердился вдруг Сергей. — Ты всегда был удивительно… колючий. Ведь ты знаешь, что энтузиазм в наше время явление точно регулируемое… В ополчение пошел потому, что понял — не напишу ни одной строки после того, как война началась. Ты ведь тоже улизнул от чернильного долга!
— Я не улизнул, а был мобилизован.
— Не лги! — тихо проговорил Сергей. — Ты знаешь пути, которые могут привести тебя назад в прессу, если ты этого захочешь. Но тебе, как и мне, нечего сказать. Время бездумных писаний прошло, а мы с тобой — дети этого времени. Другие придут и будут писать, мы же нет. Слишком много лгали, слишком много обманывали себя и других, чтобы иметь и теперь еще силу лгать.
Москва стала осажденным городом. Немцы были на подступах к столице. Стал доноситься далекий гул артиллерийской канонады. Никто не сомневался, что Москву придется отдать врагу. Город голодал.
В эти дни произошло событие, никем не отмеченное, хотя о нем стоило бы поведать в каких-то особенных словах. Впервые я узнал о нем от Прохорова. Поздно ночью он вернулся в казарму. В обширном помещении, в котором раньше помещалась рота бойцов, мы жили вдвоем. Прохоров стал трясти меня за плечо. После тяжелого дня, заполненного беготней, криками, руганью (я в то время руководил минированием Поклонной горы на Можайском шоссе), не так-то просто было стряхнуть сон. Сопротивлялся я, как мог, но когда Прохоров бесцеремонно сдернул шинель, которой я укрывался поверх одеяла, и взялся за самое одеяло, я вынужден был открыть глаза. Мы с Прохоровым крепко подружились и субординации не блюли.
— Послушай, пошел к дьяволу, — сердился я. — Что ты не даешь спать?
— Видишь это? — Прохоров подносил к моим глазам круглый металлический предмет, который вначале показался мне миной нового образца. И только окончательно продрав глаза, я увидел, что это не мина, а большая консервная банка.
— Ну, консервы выдали, что тут особенного? — злился я, снова натягивая на себя одеяло и шинель.
— Нет, ты читай, несчастный, что на банке написано.
Я взял консервную банку. Она была довольно увесистой, килограмма два. По ее белой поверхности крупно было написано: «Свиная тушонка», а чуть ниже, крошечными буквами, сказано самое важное: «Made in USA».
Это было настолько неожиданным, что я даже приподнялся с постели. Мы уже свыклись с мыслью о нашем одиночестве, а тут банка консервов, появившаяся словно привет из другого мира.
— Я, знаешь, царский памятник возвел бы, — возбужденно говорил Прохоров.
— Кому памятник? — не понял я.
— Ну, памятник той американской свинье, из которой сделана эта банка консервов… Ведь ты подумай только: Америка присылает свиную тушонку. И название-то какое… аппетитное.
— Может быть случайно попала сюда эта банка, — всё еще сомневался я.
— Я всегда говорил, что писатели и журналисты насчет смекалки очень слабы. Ведь ясно же сказано:
«Свиная тушонка». На русском языке сказано. Значит, для нас это делают, для русских. Понимаешь теперь?
— Понимаю.
— А раз понимаешь, то можешь и дальше соображать. Сегодня мне дали консервы из Америки, а завтра я получу от американцев танк и самолет. Свиная тушонка это вроде передового отряда, а армия идет позади и мы ее еще увидим. Не веришь?
— Не знаю. Всё-таки это всего лишь консервы.
— Ну, брат, ты сегодня в минорном настроении. Ложись спать и не морочь мне голову.
Но спать уже не хотелось. Я наблюдал за Прохоровым. Он вскрыл перочинным ножом банку и опять заговорил.
— Посмотри только, что за мясо. Тю-тю! — воскликнул он, вдруг, нюхая мясо.
Я подумал было, что консервы испорченные.
— Да они даже лаврового листа сюда положили, — сообщил Прохоров.
Действительно, до меня донесся запах лаврового листа. Во рту набегала слюна и голодные спазмы щекотали горло. Но я еще держался.
— Советский полковник, а возрадовался свиным консервам. Национального достоинства ни на грош. Ставить памятник американской свинье собирается.
Прохоров насмешливо посмотрел в мою сторону, но ничего не сказал. Он стал раскладывать мясо на шесть ровных порций. Взял четыре порции и отнес их в соседнюю комнату, где жили четыре офицера, как и мы, причисленные к офицерскому резерву. Вернувшись, он соединил две оставшиеся порции и снова разложил мясо, но теперь уже на три доли. Одну долю отдал мне, вторую взял себе, а третью аккуратно завернул в чистый лист бумаги и сунул в мою полевую сумку.
— Матери отнесешь, — сказал он.
Я знал, что Прохоров частенько забегает к моей матери, принося ей свой хлебный паек, но результат у него получается тот же, что и у меня. Мать греет ему чай и потчует хлебом. Она стирает ему белье, штопает носки и выслушивает его бесконечные рассказы о войнах и походах, в которых он участвовал. У меня на это терпения не было и военные рассказы, как и охотничьи, я переношу плохо.
Прохоров присел на мою кровать. У меня в столике лежала краюха хлеба, полученная от каптенармуса «по блату». Мы намазывали мясо на ломти хлеба и ели.
— Вкусно? — спрашивал Прохоров таким тоном, словно он собственноручно приготовил эту тушонку. — А что касается национального достоинства, дорогой мой, так это уже из другой оперы будет.
Полковник стал суровым в лице и, размахивая перочинным ножиком, веско, словно отрубая каждое слово, произнес:
— Самое страшное для нас в этой войне — одиночество. Я всё это время думаю о нем. Мы не можем рассчитывать на помощь. Двадцать лет мы грозим кулаком всей загранице, помогать им нам не за что, это нужно признать. А не помогут, и мы погибли. Немец по всей России пройдет. Вот потому-то и казалось мне всё безнадежным. А вот эта банка свидетельствует, что, может быть, и не так всё плохо. Понимаешь, старина?
Прохоров был прав. Ожидание американской помощи на время даже затмило опасность, надвигавшуюся на Москву. Молодой, похожий на подростка, солдат из части, остановившейся на ночевку в наших казармах, уверял товарищей:
— Американцы два парохода с махрой шлют. Вот покурим!
Табак в то время не выдавали и курильщики были обречены на страдания. Пожилой боец, он, быть может, был не курящим, насмешливо посмотрел на паренька и рассудительно сказал: