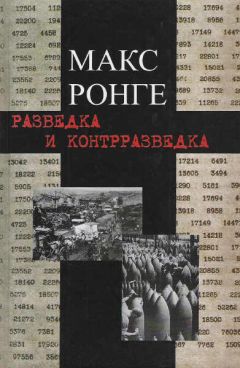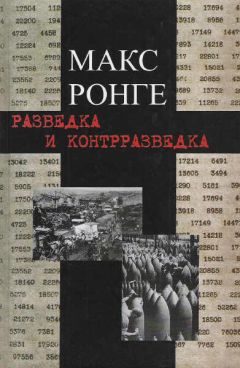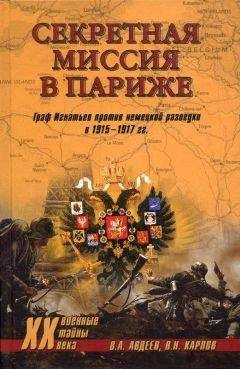Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни
Мы заговорили о пьесах Кальдерона.
— У Кальдерона, — сказал Гёте, — вы видите то же театральное совершенство. Его пьесы абсолютно сценичны, в них нет ни единой черточки, которая, благодаря точному расчету автора, не предусматривала бы определенного сценического воздействия. Кальдерон гений, и к тому же одаренный исключительным разумом.
— Странно то, — заметил я, — что пьесы Шекспира не являются, собственно, театральными пьесами, хотя он писал их для своего театра.
— Шекспир, — отвечал Гёте, — писал так, как ему писалось, а его время и устройство тогдашней сцены никаких требований к нему не предъявляли; как напишет, так И ладно. Если бы он писал для мадридского двора или для театра Людовика Четырнадцатого, он, вероятно, подчинился бы более строгой театральной форме. Но сетовать тут не приходится — то, что Шекспир для нас потерял как Поэт театральный, он выиграл как поэт всеобъемлющий. Шекспир — великий психолог, в его пьесах нам открывается все, что происходит в душе человека.
Мы заговорили о том, хек трудно хорошо руководить театром.
— Самое трудное, — сказал Гёте, — стойко выносить случайное и не позволять этому случайному отвлечь тебя от высоких максим. Под высокими максимами я разумею следующее: умелый подбор хороших трагедий, опер и комедий, которые являются основным репертуаром. К случайному же я отношу: новую пьесу, которая возбудила любопытство публики, гастроли и тому подобное. Нельзя только, чтобы все это сбивало тебя с толку, и желательно всегда возвращаться к основному репертуару. Впрочем, наше время так богато подлинно хорошими пьесами, что настоящему знатоку нетрудно создать отличный репертуар. Трудность, и пребольшая, заключается лишь в том, чтобы поддерживать его на должном уровне.
Когда мы с Шиллером стояли во главе театра, у нас имелось то преимущество, что все лето мы играли в Лаухштедте. Публика там была самая избранная, признававшая лишь первоклассные пьесы, так что мы всякий раз возвращались в Веймар, уже отработав превосходный репертуар, и всю зиму повторяли летние спектакли. К тому же веймарская публика с полным доверием относилась к нашему руководству и всегда была убеждена, даже смотря неважные спектакли, что наш выбор обусловлен самыми лучшими намерениями.
— В девяностых годах, — продолжал Гёте, — расцвет моих театральных увлечений остался уже позади, я перестал писать для театра, стремясь целиком предаться эпосу. Но Шиллер вновь пробудил мой угасший было интерес, из любви к нему и его произведениям я стал опять принимать участие в делах театра. В пору «Клавиго» мне бы ничего не стоило написать хоть дюжину драматических произведений, в сюжетах у меня недостатка не было, и работа давалась мне легко. Я мог бы писать по пьесе еженедельно и до сих пор досадую, что не делал этого.
Среда, 8 ноября 1826 г.Гёте сегодня опять с восхищением говорил о лорде Байроне.
— Перечитывая Байронова «Deformed Transformed» («Преображенный урод» (англ.), — сказал он, — я думал: как же велик его талант.
Его черт произошел от моего Мефистофеля, но это не подражанье, все у него оригинально и ново, все сжато, целеустремленно и остроумно. Ни одного пустого места, что называется — яблоку негде упасть, а сколько ума и блестящей выдумки. Единственное препятствие на его пути — это ипохондрия и отрицание, иначе он был бы так же велик, как Шекспир и древние.
Я удивился.
— Можете мне поверить, — сказал Гёте, — я заново его изучаю и убеждаюсь в этом все больше и больше.
В одном из прежних наших разговоров Гёте сказал: «Лорд Байрон не в меру эмпиричен». Я не совсем понял, что он имеет в виду, но воздержался от вопроса, решив на досуге продумать эти слова. Однако раздумья ни к чему меня не привели, как видно, оставалось дожидаться, покуда мое прогрессирующее развитие или просто счастливый случай не откроют мне этой тайны. Таковым стала превосходная постановка «Макбета», увиденная мною в театре. На следующий день я взял в руки томик Байрона, чтобы перечитать его «Беппо». После «Макбета» «Беппо» не произвел на меня особого впечатления, и чем дальше я его читал, тем яснее мне становилось, что, собственно, хотел тогда сказать Гёте.
В «Макбете» меня ошеломил самый дух трагедии, грандиозный, могучий и возвышенный, дух, присущий только Шекспиру. То было врожденное свойство глубокой и высокоодаренной натуры, которое вознесло его над человечеством и тем самым сделало великим поэтом. То, что жизнь и жизненный опыт привнесли в это творение, было подчинено поэтическому духу и служило одной лишь цели — дать ему высказаться и надо всем возобладать. Великий поэт властвовал здесь, поднимая и нас до себя, до высоты своих воззрений.
Читая «Беппо», я, напротив, чувствовал преобладанье низменного эмпирического мира, который в какой-то степени сообщился и поэту, развернувшему его перед нами. Не высокий и чистый разум великого поэта пробуждал здесь мою мысль, напротив, мне казалось, что постоянное соприкосновение с обыденной жизнью наложило свой отпечаток на образ мыслей творца этой поэмы. Он словно бы и не возвышался над уровнем знатных и остроумных людей; от них его отличало разве что великое умение Изображать окружающий мир, почему он и становился как бы органом их речи.
Итак, за чтением «Беппо» мне уяснилось: лорд Байрон не в меру эмпиричен, и дело не в том, что он слишком щедро выводит перед нашим взором подлинную жизнь, а в том, что его высокая поэтическая природа умолкает, более того, вытесняется эмпирическим мышлением.
Среда, 29 ноября 1826 г.Теперь и я прочитал Байроновы «Deformed Transformed» («Преображенный урод» (англ.) и после обеда заговорил о нем с Гёте.
— Правда ведь, — сказал он, — что первые сцены исполнены величия, и к тому же величия поэтического? Остальное, то есть распад и осада Рима, с точки зрения поэзии менее совершенны, но зато в остроумии им не откажешь.
— Да, они в высшей степени остроумны, — сказал я, — но не так уж трудно быть остроумным, если ты ничего не уважаешь.
Гёте рассмеялся.
— Это отчасти верно, — сказал он, — нельзя не признаться, что поэт говорит больше, чем следует. Он говорит правду, от которой частенько становится не по себе, и тогда думаешь — лучше бы он держал язык за зубами. Есть многое на свете, что поэту надо было бы скорее скрывать, чем раскрывать, но таков уж характер Байрона, и желать, чтобы он был другим, значило бы посягать на его сущность.
— Да, — сказал я, — он в высшей степени остроумен. Как метко, например, сказано:
The Devil speaks truth much oftener than he's deemed,
He hath an ignorant audience.
Дьявол говорит правду гораздо чаще чем считается,
Однако он имеет невежественную аудиторию
(Перев. Sem)