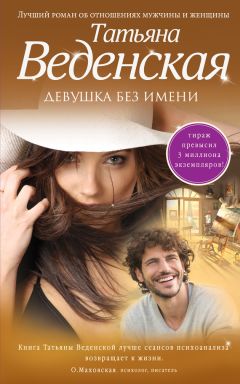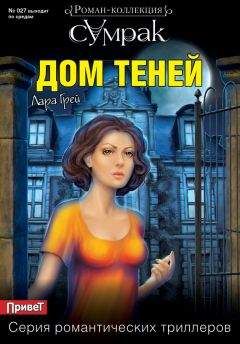Михаил Алексеев - Пути-дороги (Солдаты - 2)
В то позднее сентябрьское утро, когда в корчме вдовы Катру шла эта ленивая беседа, а над крышей хаты Александру Бокулея, играя и лаская глаз и сердце, вился сизый, кучерявый, как барашек, дымок, во двор Бокулеев вошел Суин Корнеску. Против обыкновения он не закрыл за собой калитку, тяжелым шагом приблизился к хозяину.
-- Буна зиуа, Александру.
-- Буна зиуа, Суин.
Бокулей поздоровался с соседом и снова наклонился над плугом. Он счищал с него остатки грязи. Делал он это с редким усердием и удовольствием.
-- Пахать? -- спросил Суин.
-- Угу,-- простодушно и радостно отозвался Бокулей, вновь разгибаясь и чувствуя сладкую боль в спине и пояснице.
-- Напрасный труд.
-- Как так? -- испуганно спросил Александру.
-- Запретили. Боярскую землю нельзя трогать.
-- Кто?! -- Ошеломленный этим известием, Бокулей смотрел в угрюмое лицо соседа и со слабой надеждой старался угадать, не шутит ли он. -- Кто запретил? -- повторил он сразу охрипшим голосом, поняв, что Суин говорит правду.
-- Правительство. Землю приказано вернуть хозяевам, боярам, значит.
-- А... эта... реформа? Разве ее не будет?
-- Как видишь...
Крестьяне замолчали и не смотрели друг на друга, словно бы они сами были виноваты в том, что не будет земельной реформы. Из открытой двери дома до них доходил теплый запах мамалыги. На крыльце появилась Маргарита и позвала отца завтракать. Он сердито отмахнулся от нее и, затащив плуг под сарай, вернулся к Суину. Тот, опершись на длинную палку, угрюмо смотрел в одну точку.
-- А где Мукершану? Что он... думает? -- Бокулей посмотрел на соседа с вновь пробудившейся надеждой.
-- В армии он. Прислал мне письмо с одним раненым. Говорит, чтобы не отдавали землю помещикам.
-- Как же не отдашь? Тридцать третий год повторится...
-- Соберем крестьян, поговорим.
Корнеску распрощался с хозяином и, огромный, медленно пошел со двора. На улице он остановился. Над плетнем еще некоторое время маячила его шапка да кольцами поднимался табачный дым.
На этот раз по селу не гремел бубен -- крестьяне собрались во двор Корнеску сами.
Пришли не только бедняки и батраки, но и зажиточные. Среди последних был и Патрану. Он слушал ораторов молча, смиренно поглядывал прямо перед собой, сложив на груди руки. Только один раз не вытерпел: на слова Суина "Возьмем землю силой!" кротко заметил:
-- Не дело ты говоришь, Суин. Кровопролитие одно выйдет, и все. У правительства -- армия, полиция. А у тебя что? На русских надеешься? Они, слава богу, не вмешиваются в наши дела. И правильно поступают. Сами разберемся как-нибудь. Жили по старинке -- и будем жить...
По толпе прокатился недобрый гул... Патрану почуял, что гул этот против него, и быстро умолк. Но из толпы уже вихрились, выплескивались злые, горячие выкрики:
-- Хорошо тебе жить по-старому!.. Двадцать пар волов, пятнадцать работников держишь. Лучшую землю скупил у нас. А нам, значит, опять с голоду подыхай?.. Армией ты нас не запугаешь. У меня в ней два сына служат, против немцев воюют, а против отца они. не пойдут!..-- Александру Бокулей протиснулся к Патрану.-- Не пойдут, говорю!.. Это твой щенок пошел с фашистами... Вот и поплатился! Давно ли ты закопал Антона-то! Гляди, как бы и тебя туда не отправили!.. А мои против крестьян не пойдут!
-- Не скажи, Александру, -- сдерживая себя, все так же кротко проговорил Патрану. -- Прикажут, и пойдут. Солдат -- человек подневольный...
-- Таких солдат уже нет. Недаром наши сыны рядом с русскими идут сейчас по Трансильвании. Кое-чему научились! -- за Бокулея ответил Корнеску, который поднялся на арбу и продолжал: -- Прошу потише. Давайте обсудим толком, как быть.
Крестьяне угомонились, но ненадолго. Лишь только речь зашла снова о земле, злые, тоскливые выкрики раздались с повой силой:
-- Задушат!
-- Всех перебьют!
-- Долой буржуазное правительство! -- прозвучал чей-то хрипловатый и вместе с тем молодой голос. Толпа вмиг смолкла. Потом взметнулся, задрожал другой голос:
-- Никакого кровопролития! Патрану прав: куда нам против правительства! Жили и будем жить, как прежде...
-- Мы у рабочих помощи попросим. И с нами не совладают. Так и Мукершану говорил.
-- Где он, ваш Мукершану? Только смуту развел, а сам скрылся. Он уже один раз поднимал нас. Что из этого вышло -- сами знаете!
-- Тогда было другое время. А теперь фашизм разгромлен Красной Армией. Неужели мы не сможем воспользоваться этим? Надо объединиться с рабочими! -Суин окидывал толпу темными воспаленными глазами.-- Русские рабочие и крестьяне одни, без посторонней помощи, взяли власть в свои руки. А отчего же нам не взять ее, когда нам оказали такую великую помощь? Нужно только объединиться вокруг компартии. Она одна приведет нас к победе!..
-- Что ты говоришь, Суин! Побойся бога! Забыл, что святой отец в своей проповеди говорил?
-- Святой отец говорил это с чужого голоса: ему за это платят! Сколько тысяч лей получил он только от одного Штенберга?
Крестьяне приумолкли. Теперь говорил один Суин Корнеску, а остальные молча и внимательно слушали его. Порядок установился с той минуты, когда двор покинули Патрану и еще несколько его единомышленников.
...Разошлись в полдень. Но село еще долго волновалось. Женщины бегали из дома в дом, разнося тревожные слухи:
-- Всех, кто будет брать землю, заберут в сигуранцу и посадят.
-- Нет сейчас сигуранцы.
-- Есть. Опять ввели. Патрану говорил -- он-то уж знает!
-- Нуй бун Патрану!
-- Рэу!*
-- И сыпок у него старший такой был -- оторвали ему голову крестьяне под Бакэу.
-- Туда ему и дорога!
Недовольство крестьян ширилось, поднималось, вырастая в глухую, еще не созревшую, но страшную силу. А через несколько дней в Гарманешти произошло событие, которое еще больше накалило обстановку. В одну глухую полночь, на окраине села одновременно вспыхнули два дома. Огненные столбы врезались в небо, осветили вcе село, как гигантскими свечами. Во дворах завыли собаки, протяжно, тоскливо, тревожно, с хватающим за сердце хриплым стенанием.
* Дурной, злой (рум.).
-- Бокулеев и Корнеску дома горят!
-- Проклятие!
Отовсюду бежали люди. Откуда-то катился душераздирающий вопль женщин.
Возле пылающих строений быстро собрались толпы мужчин, женщин и ребятишек. Крыша на доме Бокулея уже сгорела, и только труба не покорилась слепой стихии огня: раскаленная, длинная, она будто повисла в воздухе, -- та самая труба, которую сложили золотые руки Кузьмича. Показывая на нее, ребятишки орали:
-- Кошуриле каселор!*
Освещенная заревом, в огороде под яблоней стояла жена Александру Бокулея. Растрепанная и бледная, она прижимала к груди несколько обгорелых початков кукурузы -- все, что успела отнять у огня. Ее держала под руку Маргарита, говорила что-то матери, должно быть утешала. Сама Маргарита казалась совершенно спокойной.