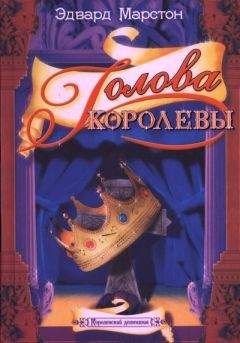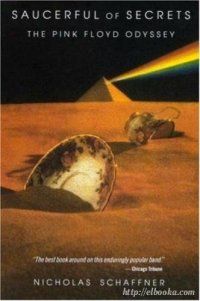Евгений Стеблов - Против кого дружите?
Да нет, наверное, кое-какая в них польза и есть, в крысах. Взять хотя бы биологические эксперименты… Недавно смотрел репортаж научно-популярного направления: отгородили крысам замкнутое пространство, установили, припрятали кинокамеры, наблюдали и обнаружили в строгой крысиной иерархии несколько непохожих на остальных особей, возмутителей общественного спокойствия, этакую богему, баловней, шалунов, которых вожак стаи часто строго призывал к порядку. Но вот открыли экспериментаторы дверь, выход в соседнее неизведанное для тварей пространство. И первыми в это пространство вытолкнул, отправил вожак богему, быть может, как камикадзе, на верную гибель. И стая напряглась в ожидании. И только когда возвратились благополучно из неизведанного посланные исследователи, только тогда крысиный король дал знак остальным осваивать, заселять новую территорию. А если бы они не вернулись, исследователи, баловни, шалуны?.. Поразительно, да все равно страшно! Да еще страшнее, я бы сказал. И как это похоже на нас! Сколько необычайных умов поплатились жизнью ради того, чтобы сделать всего один шаг, один маленький сдвиг в неизведанное. Бросить взгляд туда, куда еще никто не заглядывал… Ну а уж об искусстве и нечего говорить – оно просто требует жертв.
В доме, где я родился, жил до войны музыкант. Собственно говоря, по профессии он был врач, детский врач в районной больнице. Лечил животы, головы и сердца. А в свободное время фантазировал на фисгармонии. Он фантазировал, играл музыку, от которой переставали ссориться люди коммунального общежития. И поэтому никто никогда не стучал ему в стену, в пол, в потолок и по стояку отопительной батареи. Никто не требовал прекратить. Все говорили друг другу, думали – пусть играет. Даже во сне слушали, не просыпаясь. Такая особенная была его музыка. А может быть, и не его вовсе, потому что казалось, где-то мы слышали, знали ее очень давно, когда-то тогда, раньше, может быть, еще до рождения, и сейчас вспоминаем ее, вот-вот вспомним… Но трубы гудели из-под его пальцев, тянулись эхом его души. И все почитали его за это, и называли врача музыкантом.
Так рассказывала моя мать. Я же тогда еще не родился. А когда появился на свет – музыка прекратилась. Война позвала, и он ушел и отпустил, выпустил альбиноску-крысу. Подопытную, настрадавшуюся, из биологической лаборатории. Которую пожалел в свое время, принес домой, сделал ручной. А больше у него никого не было. Он был еще молод и одинок. И он не вернулся. И кто-то сжег его фисгармонию в голодные холода. И белая крыса смешалась с серыми в пятнистое разномастное полчище. Они вылезли из подполья, теснили людей. Всем не хватало еды и тепла. И как-то однажды, в ночь, мать проснулась от страшного моего крика, вскочила, схватила, метнула швабру, но не забила, пугнула только грохотом вслед выпрыгнувшую из коляски крысу. Зажгла свет, увидела кровь на вязаной нитяной подушке. Мерзкая тварь надкусила мне руку. Пришлось ходить на прививки. Я не хотел, плакал, боялся уколов. Так рассказывала моя мать. А я ничего не помню. Рука зажила бесследно, «до свадьбы». Но страх остался: мерзлящий, панический, первородный. Потом было много страхов. Они приходили и уходили. Иные сами, иные пришлось выметать, бить шваброй вслед, высмеивать, агитировать, загонять в дальний угол. Но вот первородный, особенно липкий, скользкий, не поддается, сидит, затаился – и в суете, и в покое всегда сознаю его, хоть и в личинах является, – завистью или тщеславием – сознаю. Ведь это он мешает мне слышать музыку убитого музыканта. Но я узнаю ее, узнаю. Услышу трубы эхом души…
Мысли остановились. Из овала ореховой рамы затуманенного пылью и временем настенного зеркала все же просматривался человек. В ушанке, в валенках, в перепачканном краской макинтоше поверх пальто. В общем, вида довольно нелепого, но определенно настойчивого, даже с монтировкой в руках. Это я сорвал все слои, отодрал все обои, дошел до начала. И теперь отражаюсь, утомленный и радостный. И все сам, сам – ни дать ни взять мастер! Кому рассказать – никто не поверит. Вот тебе и артист! «Ну и артист!» Забитые, скрытые стены сруба, годами камуфлированные под городской интерьер, опять обнажились бревенчатой ладностью. «Ах вы сени, мои сени!..» Осталось вымести сор из избы. Умыть, распахнуть окна старого дома в новую жизнь и удивляться от зари до зари… Да только не сейчас, после, еще успеется. Теперь же пора на время оставить свой дом.
В путь, в путь, сквозь лающую черноту, брешущую сторожевыми псами зимнюю стынь. Как рано стемнело. Не успел оглянуться – вот уж и все, кончился день. Но в путь, в путь! Интуитивно, на ощупь. Я знаю, знаю дорогу, не заблужусь. Но где она? Все засыпано снегом. Я проваливаюсь…
Зачем это мне? Зачем этот дом, эти стены, эта земля? Ведь я кочую, я постоянно кочую. Из образа в образ, из пространства в пространство… И если на рассвете скользишь сквозь изморозь по звенящим трамваем булыжникам Безбожного переулка, удаляясь от стен московских, а к ночи теряешься на ступеньках Папского дворца среди бессонной толпы глаз и хаоса площадных эмоций драматического фестиваля в Авиньоне, в Провансе на юге Франции, где выжженная солнцем душа Ван Гога сошла в безумие, укрылась, схоронилась там от радужного потока космической палитры, не в силах совместить и осмыслить цветом открывшееся ей, – ты восхищен и подавлен. Нет, не физической возвышенностью полета, полета по билету, за деньги, теперь доступного многим. Но ведь не каждый может пересекать пространства бесплатно, пользуясь привилегией одиночек, вечной неистребимой привилегией художника… Так что же дом и земля? Для чего огород городить? И дом, и земля, и могила за огородом достались мне по наследству, по завещанию дальнего родственника.
«Какой ты счастливый! – завидовали знакомые. – Другие полжизни кладут в фундамент дачи своей, влезают в долги, всеми правдами и неправдами возводят камины и гаражи. Тебе же без труда досталась в подарок твоя деревенская вилла. Хочешь совет? Первым делом выкопай яму, обложи ее кирпичом, да сделай сантехнику по-человечески. Поверь: это нужно. Так надо. Это блаженство: за окнами свежесть, а в доме кафельный теплый сортир со сливом и ванной, как дома, как в городе, как всегда. Не жадничай, сделай – это окупится. Цены на дачи растут с каждым днем. Скажи, если надумаешь продавать. Мы задыхаемся, задыхаемся в городе! Теперь ты должен, обязан купить машину. Ты не один. Подумай о детях. В конце концов, о жене – каково с сумками в электричке?! Мы не пугаем тебя, но послушай, купи машину. Иначе сам, сам в руках и зубах потащишь продукты из города, и как-нибудь тебя растерзают тебе подобные, сотрут в порошок в воскресном автобусе. Мы не пугаем, но на природе, на воздухе очень хочется есть. Серьезно!»