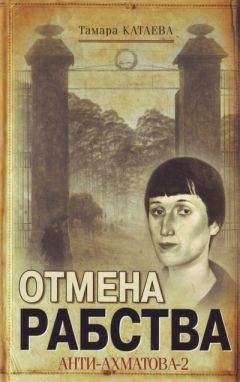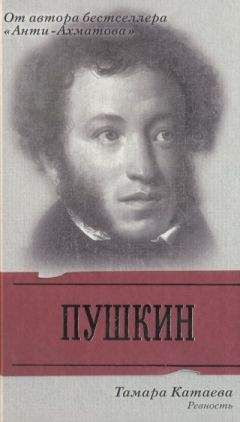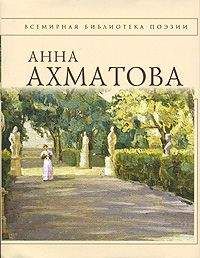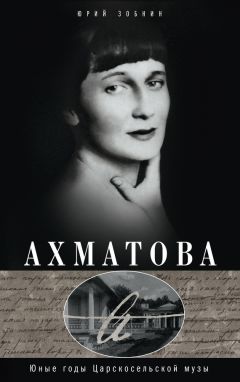Тамара Катаева - Анти-Ахматова
Тот факт, что в России имя с татарским звучанием воспринимается не столько с любопытством, сколько с предубеждением, означает, что псевдоним выбирался не экзотики ради.
Действительно, не только ради экзотики.
Куприн, написав «Гранатовый браслет», показал, что он хорошо знает, что — красиво. Татарская фамилия у великосветского семейства, у князей — это шик. А Бродский не знал?
Со стороны матери линия Горенок восходила к последнему хану Золотой Орды, Ахмату, прямому потомку Чингизхана. «Я — Чингизидка», — говаривала Ахматова не без гордости.
Иосиф БРОДСКИЙ. Муза плача. Стр. 36
На самом деле в этой выдумке был не только этот экзотический чингизидский подтекст: дорожка была гораздо прямее и вела к фамилиям, воспринимаемым без русского предубеждения к сострадаемым татарским дворникам. В то время, когда мамзель принимала себе псевдоним, совсем другие татарские ассоциации были на слуху: и князь Юсупов, и другие «бедные татары»: Урусовы, Баскаковы. Вот на такие корни намекал псевдоним, взятый Аней Горенко.
Анна Горенко пошла на это ради «соблюдения приличий», ибо в семьях, принадлежащих к дворянскому сословию — а Горенки были дворянами, — профессия литератора рассматривалась как не слишком достойная, приличествующая скорее выходцам из сословий низших, у которых нет другого способа приобрести себе имя. Здесь см. комментарии выше: «приличествующая», «Горенки», инверсия «сословий низших», и — конечно, у м-ль Горенко способов приобрести себе имя было не счесть: так и представляется вереница династий, только и мечтающих о внесении ее в свои славные родословные. Девчонка, которую мать посылает за арбузами… — это разве о ней?
Но Бродский отнимает хлеб у Акунина, покорно стилизует дальше: Требование отца, тем не менее, было несколько чрезмерным. Горенки, конечно (конечно, конечно! не поступимся ни словечком против достоверности) были дворянами, но все же не титулованными.
Иосиф БРОДСКИЙ. Муза плача. Стр. 35
А литераторствующий князь Вяземский был титулованным, а барон Дельвиг был бароном! Есть также князь Одоевский, граф Толстой… нетитулованной мелочи не счесть — Херасков, Фонвизин, все с уважением в качестве литераторов отмеченные в истории дворянских родов… А с другой стороны, множество нетитулованных фамилий было поважнее титулованных: Нарышкины, например.
…Песне Бродского о сословных предрассудках Горенок не видно конца, послушаем Лукницкого о том, как «несовместимо» было звание стихотворца с высокородными амбициями Горенок:
АА сказала, что мечтой отца было отдать ее в балет.
П. Н. ЛУКНИЦКИЙ. Дневники. Кн. 1. Стр. 213
Видя такой успех своих генеалогических вымыслов, Ахматова под конец жизни распаляется еще больше:
В родословной Ахматовой в 1960-е годы рядом с Чингизханом появляется греческая линия, идущая через крымских греков, предков отца (Горенкоподиса, очевидно): это «греки с островов». В «Родословной Анны Ахматовой»: «Можно полагать, что «предки-греки» столь же легендарны, как и «бабушка-татарка».
Н. ГОНЧАРОВА. «Фаты либелей» Анны Ахматовой. Стр. 16
В добротном туристическом путеводителе по греческим островам среди множества грамотных исторических, страноведческих, культурологических и др. справочных врезок читаю:
Гиппократ, «отец» современной медицины, родился на острове Кос в 460 г. до н. э. и умер в Фессалии ок. 375 г. до н. э. Он учился врачеванию у отца и деда: его отец был прямым потомком Асклепия, бога врачевания, а мать — Геракла.
Греческие острова. Стр. 168
Вот что значит не мелочиться!
Кажется мне, Клеопатра была не пошлая кокетка и ценила себя не дешево.
А. С. ПУШКИН. Мы проводили вечер на даче
Вот если бы и Анна Андреевна сразу, не упоминая об княжне Ахматовой, о великих князьях, «тайно обвенчаюсь с Nicolas», островных греках и пр., сразу бы сказала, что богиня Гера — ее прямой предок, — этому можно бы было поверить.
ДАМА ВЫСОКОГО ТОНА
Ахматову принято считать аристократкой. Натуральной, по рождению и воспитанию, без кавычек. Свою родословную она начала искажать еще тогда, когда слишком легко ее было схватить за руку.
Было только одно, что реально существовало и дало ей повод возносить себя в аристократические, великокняжеские и прочие, особенно далекие от послевоенного Ленинграда круги: семья Горенко во времена ранней юности дочери Анны проживала в Царском Селе. На улице Широкой, около железнодорожного вокзала.
Мимо вокзала каждые полчаса проносится от вокзала и к вокзалу целая процессия экипажей. Там все: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель, флигель-адьютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики.
Aннa АХМАТОВА. Т. 5. Стр. 168
Вот здесь она и видела аристократов.
Она рассказывала о княгине Палей как о царскоселке, хотя не помню наверное, говорила ли, что была с нею знакома.
Анатолий НАЙМАН. Рассказы о Анне Ахматовой. Стр. 23
Да полно! С какими это княгинями, даже если и царскоселками, она была знакома?
Мандельштам называл это «Царскосельский сюсюк».
НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ. Вторая книга. Стр. 287
Л. Н. Замятина сказала, что никогда не видела царя. На это АА ответила, что видела его несчетное количество раз.
П. Н. ЛУКНИЦКИЙ. Дневники. Кн. 1. Стр. 61
Будочник, отдающий честь проезжающим, видел царя еще большее количество раз.
Надпись на фотографии.
«Павлу Николаевичу Лукницкому перед моим отъездом в Царское Село. Ахматова. Мраморный Дворец».
ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА. Т. 2. Стр. 80
Она скорбела о жизни, сметенной революцией, о ливрейных лакеях (которых она не имела), о дворянском собрании (куда она не ходила), о царскосельских гусарах в ментиках…
Ирина Грэм — Михаилу Кралину.
Михаил КРАЛИН. Артур и Анна. Стр. 83
Я осведомилась, была ли она на выставке Серова. «Нет, хотя меня и звал Борис Леонидович. Я не люблю Серова. Вот, принято говорить про портрет Орловой: «Портрет аристократизма». Спасибо! Какой там аристократизм! Известная петербургская великосветская шлюха». (Да нет, просто «всегда была за развод»). — Она отвернулась и возмущенно поглядела в окно. — «Этот пустой стул с тонкими золочеными ножками, как на приеме у зубного врача!! Эта шляпа! Нет, благодарю!»