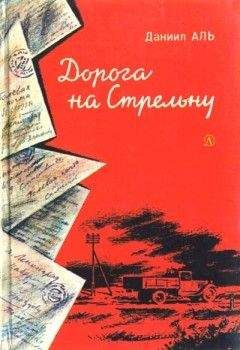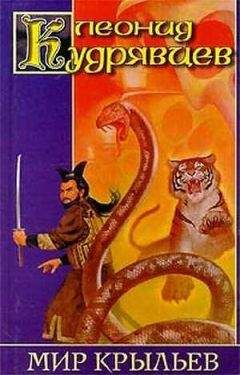Ираклий Квирикадзе - Мальчик, идущий за дикой уткой
– Буржуазная поэтесса!
Наступил второй четверг.
В дверь постучали.
На мгновение появился стриженый Гриша Вишняк, кинул конверт и исчез. Федор вскочил, распахнул дверь в коридор. Пусто. Он сбежал по лестнице вниз. На втором этаже тоже никого. Стал заглядывать в палаты, спросил у санитара. Тот не знал Гриши Вишняка. Федор вернулся в комнату.
“Тигр! Тебе надо было загрызть ее сына Мура, но он, я знаю, погиб на фронте… Негодный был парень…”
Богаевский читал подробный донос на неприглядное поведение Мура после смерти матери. Цветаева оставила письмо: “Мурлыга, прости меня, я больше не могу, так лучше. Дальше было бы хуже…”
“Все бумаги после смерти Цветаевой оказались у Мура. Этот архив она привезла из-за границы и взяла с собой в эвакуацию. Мне велели осторожно забрать его.
Мур был странным. Если с матерью его я часами ходил по елабугским лесам, она спала на моих коленях без всяких там штучек, просто утомлялась и спала… мы картошку копали, она поэтому и утомлялась… А с Муром завести дружбу мне было невозможно. Ему со мной было неинтересно. Он говорил по-французски. Он считал меня идиотом, я его не интересовал.
После смерти матери он спал на сундуке с рукописями. Потом решил уехать в Ташкент.
Я нашел одну девчонку и подослал ее к нему. Девчонка была на редкость красивая. Девчонка делала с ним, что хотела. Он расплачивался с ней стихами Цветаевой. Тетрадки стихов были девчонке ни к чему, она для меня их брала.
Однажды ночью я стоял у окна и видел, как она ловко крутила этим мальчишкой. Он был крупным, не по годам сильным, а она – худая змея, но грудастая, с маленькой попкой. Эта попка и делала важное партийное дело. Она добыла четыре тетрадки, дневник французский, что самым ценным было для меня… НКВД интересовался, что Цветаева писала в Европе.
Мур неожиданно уехал. Девочка плакала, я расстроился.
Он даже не попрощался со мной. Я поехал за ним в Энск.
Но он не появлялся в писательских домах… Он оказался на фронте… И был убит.
Я отвез в Энск цветаевские тетрадки. Человек, который занимался делами великой русской поэтессы, был арестован. Я испугался заявлять о себе.
…И тут впервые я увидел тебя. Ты был хорошо загримирован под человека…”
На этом кончается второе письмо.
Богаевский отложил листки, заполненные мелким почерком, вышел искать таинственного Гришу Вишняка, так как в голове юрисконсульта родился вопрос: “А где четыре тетради Цветаевой?” Богаевский не нашел Вишняка, фамилии этой никто не знал. Внешне Вишняк был похож на любого больного. Все они в серых халатах, все бритоголовые, а ростом и весом автор писем был среднестатистическим сумасшедшим без особых примет.
В следующий четверг, когда Федор Андреевич открыл дверь, первое, что он увидел, – конверт, лежащий на свежевыкрашенном полу.
“Федору-тигру” – как обычно, было выведено синими буквами.
“…Сожри мужа ее – недобитого белого офицера, который стал краситься в красный цвет, но я-то знаю, кто он. Дневники ее я читал, так что слушай. Где найти его, я подскажу, дам адрес лагеря, где прячется Сергей Яковлевич Эфрон.
«Он очаровательный, благороднейший человек», – пишет она в дневниках. Слушай меня, какой он благороднейший человек…
Они жили в Берлине. Эфрон повез жену к портному. Это был первый случай, когда Цветаева оказалась у портного. Она не обращала на свой внешний вид никакого внимания. Ножницами сама стригла волосы, носила «баранью челку». А тут – модный портной.
В эмиграции им жилось бедно. Эфрон предложил к литературному вечеру Марины сшить платье. Марину удивил этот широкий жест мужа. У Эфрона непонятно откуда появилось много денег. Потом такси, через весь Берлин к портному. Ожидание в приемной, долгие споры: какой фасон? Эфрон требует: «Как то платье, которое ты купила в Праге». Марина объясняет портному. Эфрон перебивает рассказ Марины, путает. Потом предлагает поехать, привезти «то платье», уезжает. Через полчаса раздается звонок:
– Я не нашел его.
– Сережа, в шкафу.
– Там нету. Ты не стираешь его?
– Нет, Сережа.
– Хорошо, я еще позвоню, как найду…
В приемной портного слушают их разговор. Эфрон вешает трубку. Он звонит не из квартиры, а из бара на окраине Берлина. Поговорив с женой, выходит из бара, идет по улице навстречу человеку, который встречается с девушкой. Девушка пошла с человеком под руку, оглянулась на Эфрона и на черную машину, медленно ехавшую вдоль маленького круглого сквера. В какой-то момент в одной точке сошлись: машина, девушка, человек, Эфрон. Эфрон вынул револьвер и, приставив к тонкой шее человека, нажал курок. Раздался выстрел, человек стал оседать. Эфрон подхватил человека за талию и внес его в машину. Девушка как ни в чем не бывало продолжила путь. Машина уехала.
На улицах вокруг сквера никто не обратил внимания на глухой выстрел.
За углом Эфрон выбегает из машины, вновь звонит портному. Потом садится в ту же машину и едет к жене. В ателье портного он расстроен, что не нашел платье, и молча принимает советы портного, предлагающего свой фасон…
Она ничего не знала о своем муже. Он получал деньги за подобные мелкие услуги…”
Федор прервал чтение. Кто-то постучал в дверь. Вошел врач. С ним – ведомый санитарами человек, похожий на Гришу Вишняка.
Федор мог поклясться, что это тот человек, но, как ни расспрашивал он бритоголового о Цветаевой, о тетрадях, тот не знал или делал вид, что не знает. Больного увели. Врач остался и разговорился с юристом.
– Что вам эта поэтесса далась?
– Да так…
– Знал я ее. Ничем не интересная, неопрятная женщина. Голова седая, морда зеленая. Приходила в санаторий, где я тогда работал, просилась судомойкой. Ногти грязные, пальцы углем обожженные. Великая русская поэтесса? Смешно!..
Письмо четвертое призывало тигра грызть, рвать берлинскую и парижскую эмиграцию.
В тот день в комнату Федора вновь зашла белотелая бесстыдница с вопросом: “Что с этим делать?” Пышная грудь, соски, как красные горошины, и требование срочного ответа смутили бедного юриста. Он прижался к ее груди, она упала на колени… Он долго успокаивался после того, как вывел из комнаты сладострастницу. Оконное стекло охладило его лоб.
“Да не буду я читать этот бред. Мне только Цветаевой не хватало. Тетка стишки писала, ее не печатали, повесилась, ну и хрен с ней”, – громко отмахивался от письма Богаевский.
Но в листках лежали страницы, написанные почерком, не похожим на почерк Вишняка. Это были стихи Цветаевой.
Федор поднес их к глазам:
Древняя тщета течет по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым!
К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль еще куда-нибудь
Дальше! За предельные пределы
Станций! Понимаешь, что из тела
Вон – хочу! (В час тупящихся вежд
Разве выступаем – из одежд?)
…За потустороннюю границу:
К Стиксу!..
Федор шепотом повторил дважды последнее непонятное слово “К Стиксу”.