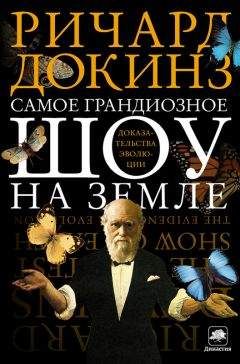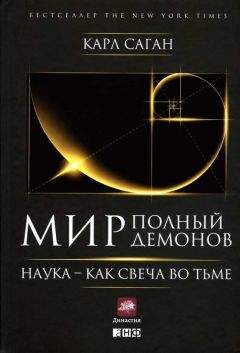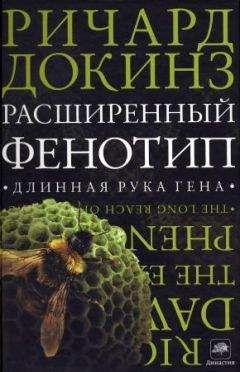Огарок во тьме. Моя жизнь в науке - Докинз Ричард
Он вернулся к этому аргументу в своей последней колонке для журнала Free Inquiry, опубликованной посмертно под названием “В защиту Ричарда Докинза” [107].
На следующий день после интервью для New Statesman мы с Кристофером отправились на Техасский съезд свободомыслия, где на вечернем банкете я должен был вручить ему премию Ричарда Докинза от имени Американского альянса атеистов. Эта ежегодная премия вручалась уже двенадцать раз [108]: в 2003 году ее получил Джеймс Рэнди, за ним последовали Энн Друян, Пенн и Теллер (совместная премия), Джулия Суини, Дэниел Деннет, Айаан Хирси Али, Билл Мейхер, Сьюзен Джейкоби, Кристофер Хитченс, Юджини Скотт, Стивен Пинкер и, совсем недавно, Ребекка Гольдштейн. Кристофер не мог ужинать из-за болезни, поэтому он появился в конце, и его встретили бурными аплодисментами, от которых у меня слезы навернулись на глаза. Затем я произнес речь, Кристофер взобрался на помост – вновь под бурные аплодисменты, – и я вручил ему премию. Его благодарственная речь была проявлением невероятной силы – и тем сильнее от горького понимания, что его прекрасный голос угасает, как и его жизнь. Он импровизировал, а я свою речь написал заранее: приведу здесь ее начало и конец в память о нем [109].
Сегодня я призван почтить человека, чье имя в истории нашего движения встанет в один ряд с именами Бертрана Рассела, Роберта Ингерсолла, Томаса Пейна, Дэвида Юма.
Это писатель и оратор с неподражаемым стилем: его словарный запас и арсенал литературных и исторических аллюзий шире, чем у всех, кого я знаю. А я живу в Оксфорде, нашей с ним альма-матер.
Это читатель, круг чтения которого столь глубок и всеохватен, что он заслуживает чопорного звания “ученый муж” – правда, Кристофер наименее чопорный из всех ученых мужей, с кем вы столкнетесь.
Это спорщик, который в состоянии вышибить дух из незадачливой жертвы, но сделает это с изяществом, которое не просто обезоружит, но и распотрошит. Он ни в коем случае не относится к (столь многочисленным) сторонникам точки зрения, что побеждает в споре тот, кто кричит громче. Его оппоненты могут кричать и визжать, и это иногда случается. Но Хитчу крик не нужен <… >.
Хоть он и не ученый и не претендует на это, он понимает значимость науки в прогрессе нашего вида и в разрушении религии и суеверий: “Скажем прямо. Религия родом из того периода человеческой истории, когда никто – даже великий Демокрит, умозаключивший, что вся материя состоит из атомов, – не имел ни малейшего представления об устройстве мира. Религия родом из нашего младенчества, полного страха и плача. Она была нашей детской попыткой удовлетворить врожденную тягу к знанию (а также потребность в утешении и ободрении и другие детские нужды). Даже наименее образованные из моих детей знают о природе вещей больше, чем кто-либо из основателей религий… ” [110]
Он всем нам дарит вдохновение, энергию, надежду. Мы болеем за него почти каждый день. Благодаря ему даже возникло новое слово – hitchslap, “пощечина Хитча” [111]. Мы восхищаемся не только его интеллектом – мы восхищаемся его боевым духом, его отказом идти на низменные компромиссы, его прямотой, его неукротимым мужеством, его беспощадной честностью.
И то, как он смело смотрит прямо в глаза своей болезни, воплощает некоторые его доводы против религии. Оставим верующих скулить и хныкать в страхе смерти у ног воображаемого божества, оставим их проводить всю жизнь в отрицании смерти. Хитч смотрит ей прямо в глаза: не отрицает ее, не пасует перед ней, но смело и честно встречает ее лицом к лицу с отвагой, которая внушает надежду всем нам.
До болезни этот доблестный всадник шел в бой против религиозного бреда и лжи, вооружившись всесторонней эрудицией писателя, блистательным и разгромным ораторским даром. Болезнь обогатила его (и наш) арсенал, возможно, самым мощным и внушительным орудием: его собственная личность стала выдающимся, несомненным символом честности и достоинства атеизма, а также ценности и достоинства человеческого существа, не приниженного младенческим лепетом религии.
Ежедневно он изобличает лживость самой убогой христианской сентенции: о том, что в окопах не бывает атеистов. Хитч в окопе, и он держится с мужеством, достоинством и честью, какими стоило бы гордиться каждому из нас, если мы сможем так же. И мы видим, что он еще больше заслуживает нашего восхищения, уважения и любви.
Сегодня меня попросили почтить Кристофера Хитченса. Не стоит и говорить, что он удостоил меня намного большей чести, согласившись принять эту премию с моим именем. Дамы и господа, товарищи, представляю вам Кристофера Хитченса.
Профессор имени Симони
В начале своей карьеры я любил преподавать, и, кажется, неплохо с этим справлялся. Во времена моей работы куратор учебных программ Нового колледжа проделал нехитрые статистические выкладки и обнаружил, что студенты-биологи из Нового колледжа значительно чаще получают дипломы первого класса, чем студенты-биологи в среднем по университету. (То же было верно для студентов-математиков из Нового колледжа, но в других дисциплинах не проявлялось). Можно ли считать, что на это повлияло и мое преподавание? Нельзя узнать наверняка, но мало что на свете доставило бы мне большее удовольствие.
В те первые годы я еще был полон юношеского энтузиазма и действительно стремился привить своим студентам понимание: не просто знания, но понимание. Мне нравится объяснять, и, возможно, преподавательский опыт помог мне отточить мастерство объяснения студентам с самыми разными способностями; позже это помогло мне в написании книг. Но нельзя отрицать, что на шестом десятке, набрав более шестисот часов индивидуальных консультаций, я несколько пресытился и утомился. Пожалуй, я был уже не так хорош, как следовало бы, – не так хорош, как раньше. Я старался как мог, но до пенсии оставалось еще лет пятнадцать, и я все чаще задумывался, не будет ли Новому колледжу лучше от вливания свежей крови в преподавание биологии. В то же время мне определенно казалось, что я могу успеть изменить мир к луч-тему, если посвящу остаток своей профессиональной жизни объяснениям для более широкой публики за стенами Оксфорда. Как это воплотить? Я стал думать примерно в таком направлении.
Мои книги отлично продавались. Годился я или нет в лекторы оксфордским студентам, но в роли лектора по всему миру я имел успех. У меня был опыт на телевидении и в журналистике. Мне неоднократно сообщали, что среди моих читателей есть предприимчивые, деловые – в общем, богатые – люди, а некоторых из них можно считать моими преданными поклонниками. Как и все университеты, Оксфорд уже тогда активно занимался привлечением финансирования и для этого открыл филиал отдела развития в Нью-Йорке. Мне дали понять, что профессионалы, нанятые Оксфордом для привлечения средств, а особенно как раз специалисты из американского отделения, могли бы подыскать благотворителя, который профинансировал бы новую должность – профессора в сфере общественного понимания науки, – и я бы перешел на нее. Меня поддержал сэр Ричард Саутвуд, вице-канцлер Оксфорда, которого я знал, поскольку он также занимал должность профессора зоологии имени Линейкра. Я побывал на множестве совещаний, где обсуждал эту возможность с сотрудниками отдела развития Оксфорда. Они передали задачу в нью-йоркское отделение, так что я на время о ней забыл и сосредоточился на своих обязанностях.
Теперь дело было в руках Майкла Каннингема из нью-йоркского офиса. Я рассказал Майклу, что встречался с Натаном Мирволдом, когда мы оба гостили на ферме моего литературного агента Джона Брокмана в Коннектикуте. Майкл связался с Натаном и организовал нашу общую встречу в Нью-Йорке. Натану пришлась по душе мысль найти благотворителя для будущей профессорской должности по общественному пониманию науки, и он отправился обсудить ее с некоторыми своими друзьями в Microsoft. Среди них был Чарльз Симони.