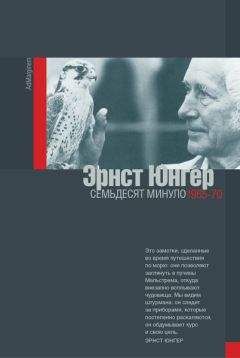Эрнст Юнгер - Излучения (февраль 1941 — апрель 1945)
О Леоне Блуа, упрекнувшего Боннара, что тот поверил в специально для него сотворенное чудо, — черта, которая мне, напротив того, нравится. О Галифе и Рошфоре;{141} Рошфора Боннар знал лично, тот показался ему похожим на маленького фотографа.
Потом о русских, которых сегодня переоценивают так же, как два года назад недооценивали. В действительности они еще сильнее, чем о них думают; возможно, однако, что их сила не так уж и страшна. Впрочем, это относится ко всякой настоящей, творческой силе.
Беседа имела для меня и общий интерес, так как Абель Боннар — прекрасный образчик позитивистской духовности, доведенной им до совершенства. По этой же причине бросается в глаза чуть-чуть приглушенный солярный характер его лица, некое подобие детско-старческой угрюмости. Чувствуется, что у этого мышления есть еще узловые точки. Правда, разговоры с такими людьми, в том числе и с моим отцом, уподобляются стоянию в прихожих. Но они дают нам гораздо больше, чем беседы с нашими созерцателями и мистиками.
Париж, 28 апреля 1943
Письмо о «Титанах» Фридриху Георгу. Также о сновидениях, где нам является отец. Брат однажды написал мне, что видел его со мной в саду; особенно примечательным ему показалось, что на отце был новый костюм.
Вечером в «Рафаэле» с лейпцигским издателем Фолькмаром-Френцелем, Лео и берлинским юристом-международником Греве, от которого я узнал подробности о мучительной смерти А. Э. Гюнтера.
Продолжаю «Премудрость» Соломона. Седьмую главу в ней можно рассматривать как аналогию Песни Песней, но на более значительной ступени, — чувственная страсть Песни преображается здесь в духовную. Бывает духовное сладострастие, недостижимое для тех, кто проводит свои дни только в прихожей настоящей жизни и не ведает о ее блаженствах. «И в дружестве с нею — благое наслаждение» (8, 18).
Премудрость восхваляется здесь как высший, не зависимый от людей разум, как Дух Святый, полонящий своей присносущностью мировое пространство. Даже самые смелые пути человеческого духа ни на шаг не приближают к Нему. Только если человек очищается, если он превращает свое сердце в алтарь, тогда и Премудрость незаметно входит в него. Всякий, таким образом, может стать причастником высшей Премудрости. Она — космическая власть; интеллект, напротив того, — власть земная, может быть, просто зоологическая. Наши атомы умнее, чем наш мозг. Примечательно, что в Притчах Соломона Писание выступает в своей крайне скептической форме, в то время как книгу Премудрости, проникнутую Божественным Промыслом, причисляют к апокрифам.
Париж, 30 апреля 1943
Среди почты письмо от Элен Моран о «Рабочем». Она называет искусством жизни искусство заставлять работать других, а самому в это время предаваться наслаждениям.
«Знаменитая фраза Талейрана „— — n’a pas connu la douceur de vivre“[131] относилась только к узкому кругу элиты, которая вовсе не была привлекательной. В салонах мадам Деффан или мадам Жоффрен{142} мы бы все умерли с тоски. У этих людей не было ни сердца, ни чувств, ни воображения, и они вполне созрели для смерти. Умирали они тоже премило; жаль только, что самому Талейрану удалось выкарабкаться — — на брюхе».
Примечательно в этой женщине ее сильное политическое дарование, вызывающее как восхищение, так и ужас. Здесь замешано искусство магии, прежде всего огонь воли, сполохи которого высвечивают химер, подобных тем, что на крышах чужих храмов освещаются заревом пожарищ. Я ощущал это и по отношению к Келларису; собственно, опасность заключается вовсе не в том, что здесь играют в карты, на каждую из которых поставлены судьба и счастье тысяч людей, она кроется в воле одиночки — в его манере выбрасывать руку. Вся демонская рать при этом тут как тут. Момент риска знаком каждому из нас, когда приказываешь молчать сокровенному в себе самом, дабы совершить тот или иной прыжок, применить тот или иной прием. Такие моменты, только невероятно усиленные, и такое безмолвие, только бесконечно более глубокое, я ощущал, встречаясь с иными событиями на своем пути. Поэтому демонические натуры опаснее, когда они молчат,
чем когда ораторствуют и создают вокруг себя движение.
Затем открыл новый номер «Современной истории», изданный Трауготтом и Майнхардтом Зильдом; я отметил, без особого удовольствия, что они черпали вдохновение для своих статей из моего «Рабочего». Однако замечание кого-то из авторов, что в этой книге дан чертеж, по которому еще нельзя судить о всей постройке, возводимой на его основе, — справедливо.
Существуют разные степени интенсивности сна, разные глубины отдыха. Они похожи на передачу движения с помощью колес, вертящихся вокруг центра, называемого точкой покоя. Так, минуты глубочайшего сна приносят больше отдохновения, чем целые ночи полудремы.
Ле-Ман, 1 мая 1943
Поездка с Баумгартом и фройляйн Лампе, историком искусств, в Ле-Ман, в гости к художнику Наю.{143} Но прежде мы побывали на одном из малых приемов у главнокомандующего, где провели большую часть ночи. Там был также профессор, почитающийся лучшим знатоком сахарного диабета. Меня все больше удивляет та серьезность, с которой и ныне произносят фразы наподобие следующей: «На сегодняшний день установлено уже двадцать два гормона, выделяемых железой гипофиза».
Как бы сей дух ни преуспевал, ему всегда будет сопутствовать успех в единичном. Он по спирали карабкается наверх по внешней стенке некоего цилиндра, в то время как истина находится внутри него. Естественно, что болезни при этом прогрессируют. Главный же гормон — тот, который определению не поддается.
Среди приглашенных к обеду был также Венигер, недавно прибывший из Германии. Он привез оттуда неплохую эпиграмму в качестве надписи на будущем монументе, который будет воздвигнут в память о второй мировой войне: «Победоносной партии — благодарный вермахт». На лице главнокомандующего в таких случаях появляется какое-то загадочное выражение, — улыбка сказочного волшебника, раздающего детям подарки.
На следующее утро отъезд с Монпарнаса. Был день ландышей, их повсюду продавали в изобилии, напоминая мне Рене. Боль при воспоминании о садах, в которые я не ступал, все еще наполняет меня. Шел дождь, но земля стояла в цвету. Среди деревьев особенно примечателен был боярышник; из его раскрасок самая притягательная для меня — меловая, что-то среднее между светло- и темно-розовой. В перелесках — дикорастущий гиацинт, в Германии не встречающийся. Его темно-синие цветы на одном из склонов, где он светился посреди кустиков зелено-желтого молочая, показались мне особенно роскошными.
В Ле-Мане Най встретил нас на вокзале. Поскольку он служит здесь ефрейтором, то после завтрака мы встретились с ним в его мастерской, предоставленной ему неким господином де Теруаном, скульптором-любителем. Картины произвели на меня впечатление экспериментальных работ, прометеева творчества, прорывающегося к новым формам. Но окончательного суждения я вынести не мог, поскольку речь шла о произведениях, которые нужно рассматривать часто и подолгу. Разговор о теологии; здесь Най, как и большинство хороших художников, знает, что сказать. Своими мыслями о пространстве его воодушевил также Карл Шмитт. Особенно удачной мне показалась фраза, что якобы во время работы он достигает точки, Когда полотно «приобретает напряжение», — в такие моменты ему кажется, что картина увеличивается до невероятных размеров. Подобное случается и с прозой, — предложение, абзац приобретают особое напряжение, особое витье. Это можно сравнить с моментом, когда женщина, на которую долгое время равнодушно или же просто по-дружески смотрел, вдруг становится для тебя эротически значимой; в этот миг преображается все — мгновенно и навсегда.
Мы зашли также к антиквару Морену, показавшему нам свои книги, в том числе великолепные ранние издания.
Париж, 2 мая 1943
Ливень. Но, несмотря на это, мы втроем отправились завтракать в Л’Эпо. Потом к Морену. У него застали Ная. Господин Морен показал нам свои коллекции: картины, среди них один Девериа,{144} мебель, монеты, китайские диковины и тому подобное. Коллекция представляет собой некую разновидность дистилляции, плавки и переплавки путем сокращения, просеивания, отбора и обмена собранного. Это была своего рода крепкая эссенция, концентрат из содержимого двух или трех комнат.
Я стоял с господином Мореном в мастерской его единственного сына, которого недавно отправили на работу в Германию, а именно в Ганновер. Отец кое-что рассказал о нем, как он уже ребенком с благоговением обращался с книгами и охотней проводил время за чтением, чем в играх или спортивных занятиях. «C’est un homme de cabinet».[132] Когда он упомянул, что оборудовал ему на рю Шерш-Миди маленький антиквариат, я тут же понял, что его сын — не кто иной, как тот, кто продал мне книгу «De Tintinnabulis»[133] Магиуса. Отец подтвердил это, вспомнив, что сын пересказал ему даже разговор, который мы вели тогда. Поскольку эта встреча показалась мне знаменательной, то я записал адрес Морена, чтобы воспользоваться им во время своего следующего отпуска.