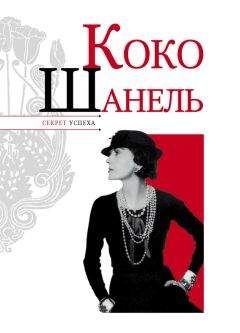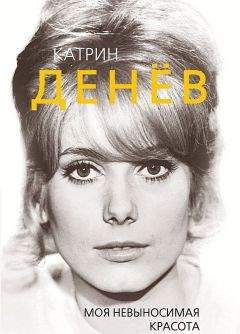Вальтер Беньямин - Франц Кафка
Мир Кафки – это вселенский театр. Человек в этом мире – на сцене изначально. Живой тому пример – Великий театр Оклахомы, куда принимают каждого. По каким критериям ведется этот набор, уразуметь невозможно. Актерская «жилка» – первое, что приходит на ум, – похоже, вообще никакой роли не играет. Можно, однако, выразить это и так: от соискателей не ждут ничего, кроме умения сыграть самих себя. Вариант, при котором человеку всерьез придется и быть тем, за кого он себя выдает, судя по всему, вообще не рассматривается. Эти люди с их ролями мыкаются по Всемирному театру в поисках работы и пристанища, как шестерка персонажей у Пиранделло в поисках автора. И для тех, и для других предмет их поисков – последнее прибежище, но не исключено, что оно же и спасение. Однако спасение – не премиальная надбавка к существованию, а скорее последнее самооправдание человека, чей путь по жизни, как сказано у Кафки, «прегражден его собственной лобной костью»[51]. Закон же этого театра содержится в неприметной фразе из «Отчета для академии»: «Я подражал только потому, что искал выход, единственно по этой причине»[52]. И К. в самом конце его процесса, похоже, тоже осеняет нечто вроде предчувствия на этот счет. Внезапно он поворачивается к одному из двух господ в цилиндрах, которые за ним пришли, и спрашивает: «В каком театре вы играете?» – «В театре?» – недоуменно переспросил один из них у другого, слегка подрагивая уголками губ. Тот в ответ повел себя как немой, пытающийся перебороть каверзную немочь своего организма[53]. Они ему не ответили, но многое указывало на то, что его вопрос неприятно их поразил.
Итак, на длинной скамье, накрытой белой скатертью, всех, кто отныне связал свою жизнь с Великим театром, потчуют торжественным обедом. «Все были радостно возбуждены»[54]. По случаю праздника статистов нарядили ангелами. Они стоят на высоких пьедесталах, укрывая и их, и ведущие на них узенькие лесенки своими белоснежными ангельскими покровами[55]. Это всего лишь нехитрые приспособления деревенской ярмарки или детского праздника, где начищенный, втиснутый в свой костюмчик мальчик, о котором у нас шла речь выше, возможно, даже исхитрялся забывать свою тоску-печаль. Не будь у этих ангелов привязанных к спинам крыльев, они, возможно, были бы даже настоящими. Ибо у них, у этих ангелов, есть свои предшественники у Кафки. Среди них – импресарио, который, когда воздушного акробата охватывает «первая боль»[56], поднимается к нему, лежащему в багажной сетке вагона, гладит его, прижимается к нему лицом, «так что слезы акробата пролились и на него тоже»[57]. И другой, то ли ангел-хранитель, то ли полицейский, который после «братоубийства» берет под свою охрану убийцу Шмара, а тот, «губами припав к плечу своего избавителя», легко позволяет себя увести[58]. На описании деревенской идиллии где-то в Оклахоме обрывается последний роман Кафки. «У Кафки, – говорит Сома Моргенштерн, – как у всех основателей религии, все дышит сельским воздухом»[59]. Как в этой связи не вспомнить об изображении набожности у Лао Цзы, тем более что Кафка в своей «Соседней деревне»[60] оставил нам поразительное по совершенству ее воплощение в слове: «Соседние страны могут лежать так близко, что будут видеть друг друга, слышать крик петухов и лай собак, а все равно в них будут умирать старики, которые так никогда и не были на чужбине»[61]. Так говорил Лао Цзы. Кафка тоже был мастером параболы, но основателем религии он не был.
Взглянем еще раз на деревню, что примостилась у подножия замковой горы, откуда столь загадочно и неожиданно приходит подтверждение тому, что К. якобы действительно был призван сюда землемером. В своем послесловии к этому роману Брод упоминает, что Кафка, живописуя эту деревню, имел в виду вполне конкретное место – селение Цурау в Рудных горах[62]. Думаю, нам позволительно узнать в ней и другой населенный пункт. А именно – деревню из талмудистской легенды, которую раввин рассказывает в ответ на вопрос, почему иудей в пятницу вечером готовит праздничную трапезу. Легенда эта повествует о принцессе, что томится в ссылке вдали от своих земляков, в глухой деревне, даже не зная языка ее обитателей. И вот однажды ей приходит письмо, ее нареченный ее не забыл, собрался к ней и уже в пути. – Нареченный, – объясняет раввин, – это мессия, принцесса – это душа, а вот деревня, куда она сослана, – это тело. И поскольку душа никаким иным способом не может сообщить телу, языка которого она не знает, о своей радости, она готовит праздничную трапезу. Эта деревня из талмуда переносит нас прямо в сердцевину кафковского мира. Ибо как К. живет в деревне у замковой горы, точно так же современный человек живет в своем теле; он из этого тела старается ускользнуть, он этому телу враждебен. Поэтому вполне может случиться и так, что, проснувшись однажды утром, человек обнаруживает, что превратился в насекомое. Чужбина – его чужбина – поработила его. Сельским воздухом именно этой деревни у Кафки все и дышит, именно поэтому он и избежал искушения стать основателем новой религии. Из этой же деревни и свинарник, из которого объявляются лошади для сельского врача[63], и затхлая задняя каморка, в которой, посасывая виргинскую сигару, сидит перед кружкой пива Кламм[64], и заветные ворота, стук в которые должен возвестить конец света[65]. Воздух этой деревни дышит нечистотами, он пропитан всем тем, не родившимся и перепревшим, что и дало такую порченую, тухлую смесь. Кафке пришлось дышать этим воздухом каждый божий день. Он не был ни прорицателем, ни основателем религии. Как, спрашивается, он вообще мог в этом воздухе жить?
Горбатый человечек
Кнут Гамсун, как давно известно общественности, живя неподалеку от маленького городка, имеет обыкновение время от времени обременять почтовый ящик местной газетенки своими суждениями по самым разным поводам. Много лет назад в этом городке судом присяжных судили батрачку, которая убила своего новорожденного ребенка. Приговорили ее к тюремному заключению. Вслед за чем уже вскоре в местной газете было опубликовано мнение Гамсуна на сей счет. Он заявил, что отворачивается от города, который способен приговорить мать, лишившую жизни свое новорожденное дитя, к какой-то иной мере наказания, кроме самой суровой: если уж не к виселице, то по меньшей мере к пожизненной каторге. Прошло несколько лет, и в свет вышла книга Гамсуна «Соки земли»[66]. В ней тоже рассказывалась история служанки-батрачки, совершившей такое же преступление, понесшей такое же наказание, и, как совершенно ясно читателю, никакой иной, более суровой кары не заслужившей.