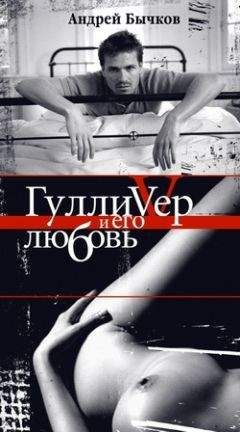Сергей Рафальский - Что было и что не было
Страница истории перевернулась навсегда…
III
В те годы, о которых будет идти речь, — перед молодым человеком, получившим наконец возможность без всяких неприятностей для себя, в яркий летний день пройтись по обсаженной акациями главной улице родного городка в заимствованном (пока портной поспевает с формой) у отца чесучевом пиджаке, с толстой (почему-то непременно сучковатой) палкой, с папиросой во рту и с новенькой, но уже старательно измятой (чтоб было солидней) студенческой фуражкой на голове, — никаких угнетающих современную западную молодежь проблем не вставало. Все высшие школы, которые ему предлагались, обеспечивали окончившему безбедную (материально) жизнь вплоть до могильной плиты из черно-серого гранита с золотой надписью и чугунной решеткой вокруг.
А если отметки в аттестате зрелости не обещали лестного приема в специальных институтах (политехническом, лесном, путей сообщения, гражданских инженеров, горном, морском, инженерном), — оставался университет с факультетами медицинским, математическим, историко-филологическим и — на худой конец — юридическим.
Тогда даже не снилось никому, чтобы окончивший высшую школу мог остаться без места, т. е. без работы. За исключением, впрочем, «добровольцев». Таких было немного, но они были.
Как только кончились стихийные безобразия марта, подсыхали дороги и зеленели деревья — по нашему уезду начинал пешеходные прогулки (а если случалось — подъезжал с попутчиком) довольно странный на современный взгляд человек. Прилично одетый — в летнюю жару в чесуче, либо в деликатной и не слишком вышитой косоворотке, в соломенной шляпе, с весьма объемной, но не обременяющей сумкой и тонкой тросточкой, как у французских маркизов времен «Короля-Солнца», он ходил по селам и деревням, где — к священнику, где — к помещику. У одних ночевал, у других гостил два-три дня (редко больше) — и уходил дальше по своему заранее рассчитанному маршруту. Его охотно кормили, поили и, когда он уходил, — прощаясь, деликатно, как доктору, вкладывали в руку каждый сколько и как мог — по сердцу и по средствам, но, конечно, не меньше «желтенькой» (то есть рубля). Его везде принимали как желанного гостя и действительно ждали, потому что он был воспитан, деликатен, образован (кончил университет) и знал решительно все новости и сплетни всего уезда и даже губернии. Вдобавок рассказчик был отменный. Единственное, о чем он никогда не говорил и не заговаривал, — была политика. И не потому, что чего-нибудь опасался, но в его «профессии» ему надо было соблюдать в отношениях с клиентами достоинство и поддерживать в них дружелюбие, а политика слишком часто плюет на достоинство и переходит границы дружелюбных и просто светских отношений. Поскольку к иным он приходил в первый раз и — при всей своей феноменальной памяти не всегда вспоминал, что именно в его архиве значится в фишке данного хозяина в графе «политические убеждения и взгляды», лучше было помалкивать… Как известно, исключения только подтверждают правила, и этот милый бездельник был исключением.
Поскольку я не собирался идти по его следам, то с большим развернутым планом фантастических надежд и реальных возможностей осенью 1914 года отчалил впервые от родного корабля и взял курс на пресловутое «житейское море», то есть в Петроградский университет…
Уже здесь, в Европе, если не почетным и потомственным, то все же весьма многолетним эмигрантом, не так давно случайно натолкнувшись на довольно посредственное, явно написанное не «в своем духе» на злобу дня стихотворение Саши Черного о сестре милосердия, вспомнил, как в поезде, почему-то переполненном (в следующие годы это стало правилом) легко раненными отпускниками, увидел такую боевую «сестрицу».
Была глубокая ночь. В вагоне третьего класса в коридоре, прямо на полу (и даже в уборной), лежали и сидели — кто как и где пристроился — спящие, полуспящие и просто «куняющие» «серые герои». У полуоткрытого окна, в солдатской шинели, белой косынке, стояла и курила, заглушая сон, она — никак не похожая на часто задорно кокетливых, порой явно проституировавших доброволиц, заполнивших впоследствии тыловые госпиталя. На ее немолодом лице какая-то терпеливая горечь, бесконечная суровая усталость. И я впервые по-настоящему почувствовал длящуюся уже месяцы войну…
В тылах — даже в нашем, не очень далеко отстоящем от границ городке — шла обычная мирная жизнь. Бои уходили все дальше на Запад — к Карпатам. Революция еще не успела облагодетельствовать «нищую Россиию» коммунистическим изобилием, и поэтому, как и раньше, в магазинах и на базаре требовались только деньги и доброе желание, а все остальное было в обычном, хватающем на всех количестве. Вот только водки и спиртных напитков вообще не было. Память, к сожалению, не сохранила, как обходились без них, пока не наладилось самогонное производство. Конечно, в семьях, из которых ушли на фронт отец, сын, брат или муж, — надолго поселилась неизбывная тревога, но на улице, в общественных местах, дружеских встречах, приемах, посиделках — жизнь шла как ни в чем не бывало. И только пустые (потом их наполнили запасные и ратники) казармы и закрытые винные лавки напоминали, что в мир вошло безумие.
И вот эта строгая женщина, окруженная аурой человеческих страданий и насильственных смертей, космическое обоснование которых плохо укладывается в индивидуальное сознание, впервые открыла мне, как сказали бы возвышенные люди, сущность войны в плане духовном…
На пересадке пришлось долго ждать. Правда, в последующие годы ожидание нарастало, как снежный ком, покатившийся с крутой горы. Тогда стал ходить злободневный анекдот в виде вопросов и ответов: во Франции на вокзале: «Скажите, пожалуйста, когда пойдет поезд?» — «В 14 часов 25 минут 10 секунд!» — «О, почему же такая точность?» — «Военное время!» В России: «А когда же поезд пойдет?» — «Может быть, в шесть часов с половиной, а может быть, после двенадцати». — «Почему же так неточно?» — «Военное время!»
Когда ленивая стрелка стала, наконец приближаться к шести часам, оказалось, что на пересадке собралось много петербургских студентов и курсисток. После короткого, как теперь сказали бы, «митинга» пошли к начальнику станции, и тот охотно отвел нам отдельный вагон, который мы довольно плотно, до багажных полок, заселили. И жизнь пошла в более мажорном тоне: обычные иронически шутливые студенческие разговоры и остроты «а ля Онуфрий» (см. «Дни нашей жизни» Леонида Андреева), легкий флирт на товарищеских началах, а кое у кого и азартная дискуссия «о самом главном». И так, пока не потянулись за окном «родные болота»…