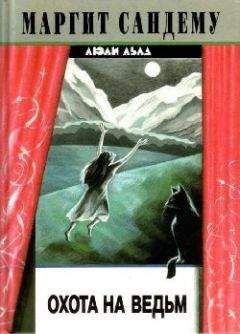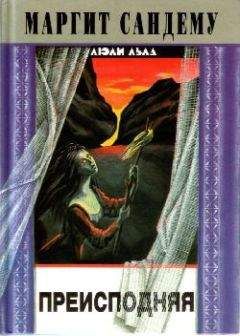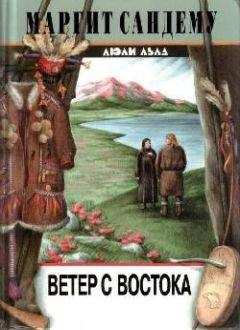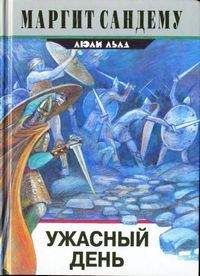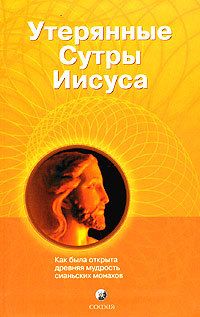Соломон Апт - Томас Манн
В толстых, из красного кирпича, воздвигнутых еще в XVI веке стенах «Катаринеума» дух казенщины и муштры был в годы учения Томаса Манна очень силен. Начальству расшатывание общественных устоев виделось и в обычных мальчишеских выходках. Отношения между учениками и учителями строились, как правило, на беспрекословном подчинении первых вторым. Культ силы, пышно расцветший в Германии после победы над Наполеоном III (годовщины Седанской битвы отмечались с большой помпой), давал себя знать внутри этих стен и в тоне, каким разговаривали старшие школьники с младшими, и в атмосфере уроков гимнастики, и в той безапелляционности, с которой учителя и наставники покровительствовали своим любимым ученикам.
О тупости и обывательской ограниченности иных любекских столпов народного просвещения можно судить по случаю, о котором Томас Манн с улыбкой вспоминал в старости. Отчитывая в актовом зале нескольких сорванцов за то, что они изрезали перочинными ножами классные столы и скамьи, директор гимназии грозно воскликнул: «Вы вели себя как социал-демократы!» Все рассмеялись, даже некоторые учителя, но директор в ответ лишь рявкнул: «Смеяться тут нечего».
В первый же год пребывания в «Катаринеуме» четырнадцатилетний новичок Томас Манн сильно повредил своей репутации у гимназического начальства. Из детского тщеславия он похвастался кому-то из учеников, что пишет стихи, а тот довел это до сведения классного наставника. Сочинительство было, с точки зрения учителей, занятием если не равнозначным «ниспровержению основ», то, во всяком случае, сомнительным, непочтенным, недостойным сына такого уважаемого отца. На юного стихотворца смотрели с недоверием, а на секатора — кто с сочувствием, кто со злорадством.
К обязанности изо дня в день подчинять свою жизнь требованиям «заведения» подросток относился с мрачным юмором. Его литературного честолюбия хватило, как мы видим, на то, чтобы похвалиться товарищу своими стихами. Он разыгрывал дома вместе с сестрами перед родителями и родственниками сочиненные им пьесы. Но порвать с гимназией на основании таких первых примет своего нерасположения к «практической деятельности», решительно сказать сначала себе, а потом отцу, что с него хватит этой зубрежки, этой муштры, этой скуки, он не мог, он не считал себя вправе. Что привязывало его к ненавистной рутине? Чувство ли долга — будь то перед отцом, прочившим его в наследники фирмы, или перед жизнью вообще, требующей от каждого неприятных усилий и жертв? Тайное ли сознание несовершенства своих первых творений? Сомнение ли в том, что на таком хрупком фундаменте удастся построить свое будущее? Или сила господствовавших в родном кругу представлений, по которым главным мерилом успеха было материальное благополучие, — представлений, целиком отрешиться от которых ничем не прославившемуся подростку не так-то легко? По-видимому, тут действовала совокупность всех этих и подобных причин. Отсюда и мрачный юмор.
Корфиц Хольм, он еще появится в нашем рассказе, учившийся в «Катаринеуме» на класс старше Томаса Манна, сохранил в своих воспоминаниях, озаглавленных «Я — с маленькой буквы», один штрих, косвенно подтверждающий характерность такого умонастроения для его гимназических лет: «Единственная, пожалуй, гарантия моего бессмертия — это то, что я был с ним в одной паре на уроках гимнастики... Томас Манн как гимнаст представлял собой, если говорить об умении и желании, особый случай: он оказывал этой глупости пассивное, полное независимости сопротивление, он только кончиками пальцев, как бы символически, дотрагивался до брусьев и перекладины и скользил по этим недостойным его предметам взглядом, поистине слепым от презренья...»
Похоже на то, что детская игра в принца была только предвосхищением душевного состояния отрочества. Не находя в себе еще сил и решимости, не видя еще по молодости лет возможности построить свой быт соответственно своим склонностям, — да и склонностей-то этих он еще толком не знал, неприязнь к школе ощущалась серьезнее, чем пристрастие к литературе, — он жил в подспудном сознании временности, промежуточности этого несоответствия.
Нельзя, впрочем, сказать, что в школьной жизни совсем уж не было светлых сторон. На фоне гимназических чинуш особенно симпатичной казалась фигура классного наставника Бетке, преподававшего немецкий язык и латынь. Бетке считал себя поборником прогресса и, наверно, даже политическим оппозиционером. Он любил выступать с речами в городском управлении и, высказываясь по самому незначительному поводу, не упускал случая побранить более высокую административную корпорацию — сенат. Речи эти обычно заканчивались французскими изречениями, которые оратор, по учительской привычке, тут же переводил на немецкий.
— Quis' excuse, s'accuse, — разглагольствовал Бетке, — а это значит: «Кто просит прощения, тот обвиняет себя», господин сенатор.
Природное свободомыслие Бетке находило выход и в этом чудаковатом витийстве, и в энтузиазме, с каким он рекомендовал своим питомцам баллады Шиллера:
— Это вам не первое попавшееся чтиво, это самый первый разряд всего, что вы когда-либо прочтете!
Либеральный гуманитарий Бетке — кто знает, не вошли ли и его трогательно смешные черточки в образ Сеттембрини из «Волшебной горы»?
Скрашивали пребывание в «Катаринеуме» и дружеские привязанности, одна из которых — к однокашнику Отто Граутофу, сыну любекского книготорговца, впоследствии писателю-искусствоведу, — возникла как раз на почве отвращения к гимназии. Другой товарищ, красавец, спортсмен, примерный ученик — о нем известно только, что он послужил прототипом для белокурого и узкобедрого Ганса Гансена в «Тонио Крегере», а в действительности спился, — привлекал к себе будущего автора этой новеллы, наоборот, несходством с ним самим и, не подозревая о том, вносил в его унылую школьную жизнь радостное волнение настоящей влюбленности.
Он вообще с детства умел восхищаться людьми, музыкой, книгами, морем и потом не раз говорил, что собственными свершениями в искусстве обязан способности восхищаться чужим. Средневековая архитектура, концерты в травемюндском курзале, мальчик-одноклассник, да еще девочка с каштановыми косичками, с которой ученик младшего класса «Катаринеума» познакомился на частных уроках танцев и которой посвящал, увы, не сохранившиеся стихи, — вот, пожалуй, и все сильнейшие эстетические впечатления детства, если иметь в виду собственно любекские, не книжные.
В этот короткий перечень никак нельзя вставить имя поэта Эмануэля Гейбеля, почетного гражданина Любека, человека поистине неотделимого от родного города, ибо мало того, что его здесь все знали при жизни, через пять лет после его смерти, в 1889 году, любекцы воздвигли Гейбелю памятник. Первое известное нам письмо Томаса Манна относится к году открытия этого памятника. Оно подписано «Томас Манн, лирико-драматический поэт». Эта первая ироническая самооценка (сколько их еще будет в статьях и письмах!) со сдержанной иронией намекает на Гейбеля. Ведь признанным лирико-драматическим поэтом был не четырнадцатилетний гимназист, а оригинал монумента, тот, чья смерть вызвала, по слухам, у какой-то старушки на улице тревожный вопрос: «Кого же теперь назначат на его место?» Желания занять место почтенного эпигона, снискавшего своей националистической лирой звание рейхсгерольда, начинающий автор не испытывал.