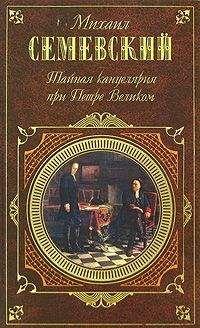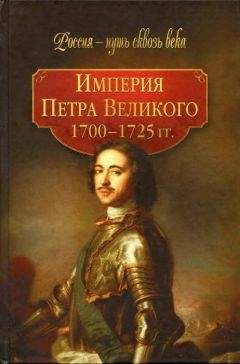Михаил Семевский - Слово и дело!
Приговор состоялся четыре месяца спустя после преступления: «Данило Белоконник, — писал Петр Андреевич Толстой, — расспросом показал, что непристойные слова говорил он от простоты своей, не зная, что его величество — император; знает-де он — государя, а мыслил, что солдат пьет за какого-нибудь боярина и называет его императором, а что у нас есть император — того он, Данило, не знает. И хотя два свидетеля показали сходно простоте Данилы, однако ж, без наказания вину Белоконника отпустить невозможно, для того, что никакой персоны такими непотребными словами бранить не надлежит. Того ради, бить его Белоконника батоги нещадно, а по битье освободить, и дать ему на проезд пашпорт…»
Расквитался Данило за незнанье да непонимание нового титула государева, и спешит хохол на родину, в милую Украйну. Там, в Нежинском полку, в Конотопской сотне, в деревушке Гут, четвертый месяц ждет да поджидает Данилу горемычная семейка. В толк не возьмут ни парни, ни дивчаты, ни батько, ни матка — куда он запропастился?… Его взяли по государеву делу! И эта весть как громом поражает семью: не вернуться уж Даниле, так думает она; не родное село в привольной Украйне, а Сибирь да каторга ждут его. Ведь не первый, не последний он: ведь сотни да тысячи чубатых казаков должны были сменить Малороссию на дальнюю и студеную страну Сибирскую. Но вот является Данило — жив, здоров и невредим… Постегали его маленько… дали острастку, и вся родня благодарит Бога, что так дешево поплатился он за государево дело!
5. Волокитство полицейского
5 мая 1720 года в канцелярию Антона Мануиловича Девиера, с. — петербургского обер-полицмейстера, один из подчиненных ему полицейских сотских представил солдатскую жену Ирину Иванову.
«Вчерашнего числа вечером, — доносил сотский, — был я на Петербургской стороне, в Мокрушиной слободе, и проходил я вместе с десятским для того, чтоб приказать жителям выставлять на ночь рогатки. Проходя мимо дома солдатки Ирины, услыхали мы в том доме крик немалый. Вошли во двор и стали там крик запрещать, чтобы крику не было. А выбежали на ту пору из избы два бурлака и стали нас бить; того ради взяли мы под караул ту солдатку Ирину, да с нею ж двух баб, что были у нее, и бурлаков. А как повели их на съезжую — солдатка и закричи за собой: „Слово и дело!“
„Неправда, не так, все неправда, не так было дело, — говорила в оправдание Ирина. — Был у меня и крик, и шум великий, а чего ради? Того ради, что пришли на двор сотник с десятником. Вошли они в избу, а в избе сидела сестра моя родная, да жена преображенского солдата Устинья. Стал им говорить сотский непристойные слова к блуду, а я стала гнать его вон со двора; он не слушал, не шел. На то время вошли в избу два брата моих, родной да двоюродный, принесли кружку вина нас подчивать; а как увидели сотского с десятским, и их со двора столкали. Те закричали на улице, собрали народу немало, взяли нас всех под караул и повели на съезжую. Ведучи дорогою, стал меня сотский бить смертным боем, и я, не стерпя того бою, закричала государево „слово и дело“.
Разобрать было нетрудно, кто прав, кто виноват: виноваты были все. Но полиции надо было только поскорей узнать допряма: действительно ли есть за солдаткой какое-нибудь важное дело, чтоб доложить о том куда следует, „без умедления“. Руководствуясь печатною формою допроса, полицмейстер задал Ирине следующие вопросы:
— Как зовут и какого чину? Сего мая 5-го дня на дворе у тебя шум и крик великий был ли?
На эти вопросы Ирина отвечала рассказом о волокитстве сотского, о заступничестве за нее братьев, наконец, повинилась: „Государева «слова и дела» за мной нет, и ни за кем не знаю, и в той моей вине волен великий государь".
— Пристанища ворам, — продолжали допрашивать, — беглым солдатам и матросам не держала ли, и для непотребства, для блудного воровства баб и девок не держала ли?
Та, разумеется, отвечала отрицательно, причем нелишним сочла заметить: «И сама я ни с кем блудно не живу».
— Живучи в Петербурге, какое пропитание имеешь?
— Получаю деньги от мужа солдата, да мою на людей белье.
— Против вопросов всю ли правду сказала? Клятвы и уверения, что все сказанное правда, а буде что ложно, указал бы государь за то казнить ее смертию, — последние слова были обычным припевом всех ответов при допросах того времени.
Как ни ничтожно было происшествие, но так как здесь замешано было «слово и дело», то обер-полицмейстер не решился сам учинить расправу, а препроводил виновную для «подлинного розыска» в Тайную канцелярию.
Последней очень часто доводилось иметь дело с такими, которые, сказав «слово и дело», отступались от него, за неимением что сказать. Расправа с такого рода преступниками была коротка.
В тот же день, как привезли солдатку Ирину, побили ее вместо кнута батогами нещадно и отпустили с напамятованием: ничего не зная, не сказывать за собой государева «слова».
6. Нежная укоризна
— За что, за что ты меня бьешь?! Зачем бьешь напрасно? — голосила Авдотья Тарасьевна, тщетно стараясь защититься от побоев вельми шумного супруга своего, Петра Борисовича Раева.
— Я тебя… бивал… в Москве… ты ушла… Я тебя… сыскал здесь… а за то тебя и ныне бью, — приговаривал супруг, то опуская, то подымая кулак, — что ты сказала противные слова… Зачем… сказывала… ты… мне… противные слова про его царское… величество… да для чего также молвила… худо о царевиче?
— Что ты, что ты, что с тобой? — вопила в ответ Авдотья, — статное ли дело мне такие слова говорить? Когда ж я тебе это говорила?
— Помнишь… сверху, сверху-то ты пришедши говорила?… А тогда ж сказывала, что те слова слышала от зятя, от Матвея Короткого, и от сестры своей Аграфены Тарасьевны?
Новые побои Петра Борисовича, новые стоны, слезы и крики Авдотьи Тарасьевны…
Эта сценка из вседневной супружеской жизни тогдашнего общества происходила 7 октября 1721 года, после обеда в субботу, в Петербурге, в доме купца Короткого, в людском подклете. К несчастию для вельми шумного Раева, в избе было несколько свидетелей его нежных укоризн. Здесь были две бабы-работницы, повивальная бабка и хозяйский батрак Карнаухов.
Последний, парень сметливый, познав, что то дело государево, рассказал о нем хозяину.
Хозяин был родня Раеву; они были женаты на родных сестрах. Раев — сын боярский, человек грамотный, был служителем крутицкого архиерея и приехал в Петербург на побывку, за женой, для взятья ее с собой в Москву. Человек вечно пьяный и буйный, он никак не мог с ней ужиться, и она часто укрывалась от ласк супруга в доме сестры.