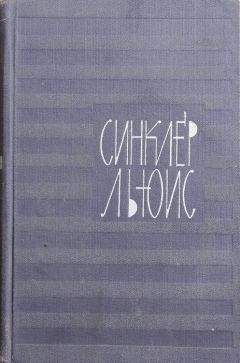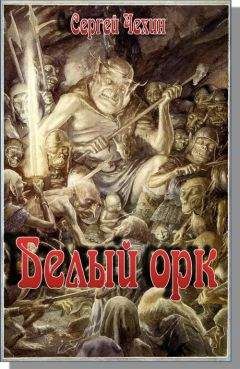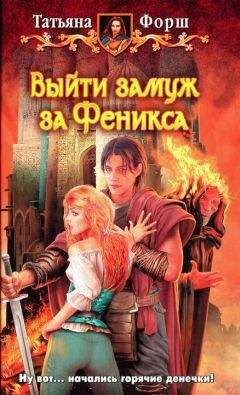Александр Лавров - Андрей Белый
Господство «музыкального звукоряда» в поэтическом творчестве Андрея Белого было обусловлено фундаментальным философско-эстетическим постулатом, воспринятым от Шопенгауэра, согласно которому музыке принадлежит особое, приоритетное место в ряду других искусств, поскольку только она способна наиболее полно и адекватно передавать внутреннюю сущность мира. Своего рода эстетическим манифестом была первая теоретическая статья Белого «Формы искусства» (1902), в которой музыка осмыслялась как искусство, наименее связанное с внешними, косными и случайными формами действительности и наиболее тесно соприкасающееся с ее потаенной глубинной сутью: «Глубина музыки и отсутствие в ней внешней действительности наводит на мысль о нуменальном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия <…> близостью к музыке определяется достоинство формы искусства, стремящейся посредством образов передать безобразную непосредственность музыки. Каждый вид искусства стремится выразить в образах нечто типичное, вечное, независимое от места и времени. В музыке наиболее удачно выражаются эти волнения вечности»[21]. Музыкальный субстрат, непосредственным образом проявившийся в «симфонических» опытах Белого и опосредованно в его поэзии и прозе, организованных как многоуровневая система вариаций, повторов и лейтмотивов, служит воплощению идеи соответствий, ключевой в символистском мировидении, позволяющей видеть единое во множестве явлений и устанавливать связи между ними. Не менее значимым для Белого приоритет музыки и соотносящихся с нею приемов построения художественного текста был в плане функционирования другой глобальной идеи, довлевшей над его сознанием, — ницшевской мифологемы «вечного возвращения». «Кольцо колец — кольцо возврата» воплощается в творчестве Белого в многоразличных аспектах — как основа сюжетного построения (3-я «симфония» «Возврат», одноименное стихотворение), как центральная историософская идея («Петербург»), как форма осмысления собственной духовной эволюции и отображающей его организации поэтического текста («И опять, и опять, и опять — // Пламенея, гудят небеса…»), как механизм творческой самореализации, функционирующий в структуре различного рода повторов на лексико-синтаксическом уровне.
«Музыкальный звукоряд» осуществляется в бесконечном разнообразии ритмических пульсаций; закономерно, что художественное слово Андрея Белого подчинялось «структурным законам симфонизма и музыкального ритма <…> потому, что — вслед за Ницше — А. Белый полагал, что ритм есть вообще форма становления, ритм есть тот первоэлемент движения, благодаря которому индивидуум вычленяется из „мирового оркестра“ и сливается с ним <…> проблема ритма восходит все к той же попытке восстановить нарушенное равновесие, разрешить проблему индивидуума и мира»[22]. Ритм — глубоко и всесторонне осознанный самим Белым первоэлемент его творчества. Писатель осмыслял ритм как универсальную категорию, имеющую космогоническую природу и охватывающую все сферы бытия и творчества; мировой ритм, согласно его концепции, претворяет многообразие явлений в единство, открывает возможности для самопознания, для постижения «чистого смысла», простирающегося за пределами круга данных рассудка. «Чистый смысл», — писал Белый в статье «Ритм и смысл» (1917), — есть «живая динамика ритма; он — вне-образен, вне-душевен, духовен, неуловим, переменен и целен. И мысль, взятая в нем, — глубина, подстилающая обычную мысль; чистый смысл постигается в вулканической мысли, в пульсации ритма, выкидывающей нам потоки расплавленных образов на берега осознания <…> уразумение ритма поэзии утверждает его, как проекцию чистого смысла на образном слове; ритм поэзии — жест ее Лика, а Лик — это смысл. Чистый ритм, чистый смысл — вот пределы, в которые опирается осознание образных и рассудочных истин <…>»[23]. Устанавливаемый путем стиховедческого анализа «ритмический жест» поэтического текста способен, по Белому, продемонстрировать «ритмический смысл»: «… есть Слово в слове, соединяющее ритм и смысл в нераздельность; и рассудочный смысл, поэтический ритм лишь проекции какого-то нераскрытого ритмо-смысла»[24]. Стремлением к постижению этого большого Слова, обозначаемого с прописной буквы, продиктованы все творческие усилия Белого; воплощение Слова есть форма теургического преображения мира: «…свершится второе пришествие Слова»[25].
В приведенных и во многих других высказываниях Белого, раскрывающих его «уразумение ритма», неизменно присутствует акцент на динамическом начале, характеризующем эту субстанцию поэтического творчества. В мемуарах Белый, размышляя о первичных импульсах, получивших затем в его писаниях широкое развитие, подчеркивал: «…от гераклитианского вихря, строящего лишь формы в движении и никогда в покое, и подставляющего вместо понятия догмы понятие ритма, или закона изменения темы в вариациях и всяческого трансформизма, и заложена основа всего будущего моего»[26]. Подвижность границ между отдельными стихотворными произведениями и вариативность расположения фрагментов внутри стихотворного текста, прихотливая комбинаторика «малых» слов, управляемая стихийными пульсациями «ритмо-смысла», восполняются и усугубляются резко очерченными признаками неравенства Андрея Белого самому себе на разных этапах идейно-эстетической эволюции; неравенства, отражающего сущностные признаки его художнической личности, реализующейся в непрекращаюшемся процессе изменения и возникновения и в то же время сохраняющей свою идентичность, демонстрирующей верность тем первоосновам, которые неизменно сказываются в его творчестве, хотя и преломляются на разные лады. Ф. А. Степун даже полагал, что Белый в своем гипердинамизме лишь «все время подымается и опускается над самим собой, но не развивается»[27]. Белый и сам осознавал, что в проделанном им духовном пути и характере внутренних изменений заключена определенная ритмическая повторяемость — регулярная смена «мажорной» доминанты в мироощущении на «минорную», чередование «позитивных» и «негативных» настроений, «утопии» и «нигилизма»; в пространном автобиографическом письме к Р. В. Иванову-Разумнику (1–3 марта 1927 г.) он все годы своей жизни разделил на семилетия, каждое из которых осмыслял как изоморфное по своей внутренней структуре всем остальным и при этом составляющее идейно-психологическую антитезу последующему семилетию: «четные» и «нечетные» семилетия, чередуясь, образуют неизменную симметричную композицию, выявляющую и характер перемен, и разнообразные аналогии между различными жизненными этапами[28].