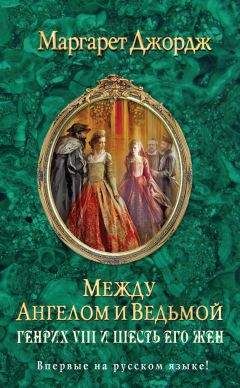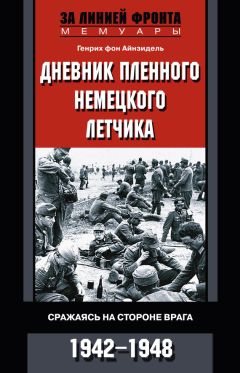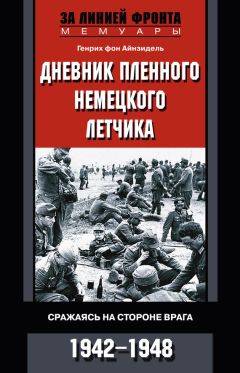Генрих фон Лохаузен - Верхом за Россию
Если мы тоже должны создать себе пространство, чтобы не быть растертыми между двумя мельничными жерновами, то, тем не менее, более важным остается, что мы ведем свою жизнь на более высокой ступени, чем наши враги, что мы думаем, говорим и делаем то, что, вероятно, не даст нам никакого видимого пространства — оно ведь только современность — а даст будущее, вечность. Но в этом нам не поможет никакая победа и не навредит никакое поражение, так как дело лишь в том, что мы сделали из победы или поражения. Что, собственно, осталось от завоеваний афинян? От их колоний, их союзов? Ничего! Но Акрополь, колонны Парфенона — еще сегодня принуждают каждого, кто видит их, опускаться на колени! Пролетая из Ливии мимо Крита, я, больной, с сорокаградусной температурой, тут же забыл о температуре, желтухе и войне, когда я — еще в воздухе — увидел прямо под собой, то, что нельзя ни с чем перепутать.
Это, а не успех или власть, это те вещи, которые переживут тысячелетия, все равно, сможем ли мы еще видеть их как в Афинах или только лишь слышать о них, как о царе Леониде и жертвенном подвиге спартанцев. Их пример важен еще сегодня, но никто не спрашивает о тогдашней победе персов. Здесь важны деяние, убеждения, образ мыслей, а не успех.
Что осталось от всего блеска сарацинов? Современность не знает еще ни одного свободного арабского государства. Но то, что они принесли миру, новый образ бытия, остался: наверху один, всеобъемлющий Бог и внизу горящая, безжалостная пустыня. Нужно там жить, чтобы это понимать. Ислам, это понятый как целостность, поднявшийся до высот вероучения арабско-североафриканский ландшафт во всей его жесткости и во всем его великолепии. Нет ничего на этой земле, что было бы в такой же целостности отлито из одной формы, как он и она, и люди, которых он создал. Вот как раз об этом и идет речь. Могут ли они найти вечное в себе и тогда представить это в камне, звуках, цвете, в слове или своим особенным способом существования, в жизни и в позиции — это мерило, которым измеряются народы. Можно захватить мир как Чингисхан, а можно захватить его как Будда, как Христос или Мухаммед, и только второй вид удержится. Срок установлен всему земному, также и каждому народу: сто, пятьсот, может быть, тысяча лет. И к каждому направлен один и тот же призыв: Откройся! Расти, стань мощным и сильным, дари то, что ты должен дать, и распространяйся, если ты можешь, даже и по всей земле, но: чего ты ты не достиг, значение имеет лишь то, что поднимается над тобой!
Довольно долго они скакали молча. Хотя им казалось, что это длится уже давно, на самом деле они знали друг друга только несколько дней. Только тот, который обычно скакал в центре, уже пережил в мае бои на окружение под Харьковом. Другие лишь недавно появились тут по очереди для замены погибших товарищей. Высокий всадник на рыжем коне почти уже закончил свое обучение философии в университете Бреслау, когда его призвали в Вермахт. В прошлом году его ранили в Гоеции, после этого он служил во Франции, так же, как еще до Французской кампании, лейтенант на вороном коне. В 1937 году он был студентом в Праге, изучал там историю и романские языки, пока в 1938 году — чтобы не попасть в чешскую армию — не сбежал в Берлин и там был призван на военную службу.
Тот, кто ехал на рыжей лошади, прервал молчание. Повернувшись к своему товарищу слева, он сказал, продолжая прекратившуюся беседу:
— Ты видишь будущее и отстаивание прав нашего языка в его распространении, а я в его углублении. Ты видишь крону дерева. а я корни. И только они обеспечивают прочную основу. Потому меня волнует то, что идет глубоко вниз, до поиска засыпанных источников, а потом даже до забытого родства смысла и речевого ритма, значения слова и выбора звуков. Мы слышим мантры индусов, но не воспринимаем такое же богатство в основе нашего собственного языка.
В его начале стояли не слова, как сегодня тысячекратно и часто необдуманно повторяют, в начале тот, кто хотел что-то высказать, искал как раз подходящий для этого звук: понятие и звук должны были совпадать для уха говорившего, так как они соответствуют друг другу по существу, как мы для текста песни находим соответствующую ее смыслу мелодию. Подобно тому, как мы кладем на музыку стихи, наши жившие давным-давно предки придавали звучание тому, что они видели и что они чувствовали, давали мелодию, спрессовывали мир немых вещей, немые чувства и мысли в язык. Таким было начало. Звук искал в своем окружении видимого, осязаемого или ощутимого одно из родственных ему самому колебаний — и наоборот. Язык был мудростью, культом предоставления имени, пока интеллектуальное высокомерие не заставило поверить, что можно все подряд называть по своему усмотрению, и один звук так же хорошо подходит для этого, как и любой другой. Из-за этого в речи людей пропала когда-то присущая ей глубина. Ее заклинающая, ее очаровывающая сила была в ней. Кое-что из этого сохранилось еще в старых магических формулах, как раз в тех мантрах индийцев и в определенных сурах Корана. «Язык — это магия слов» — говорит Людвиг Клагес. Слишком многого от этого не осталось, не могло удержаться на асфальте современного большого города. Одаренные поэты неосознанно снова и снова возвращали кое-что из этого назад к свету. По-видимому, то, что пропало в свое время, также связано с библейской легендой о строительстве Вавилонской башни и якобы произошедшем там смешении языков.
— Я скорее полагаю, — заметил всадник справа, — что за этой легендой кроется что-то еще гораздо более древнее, а именно потеря нашего дара читать мысли. Этот дар человек получил от природы, и, возможно, он был когда-то повсеместно распространен. Люди понимали друг друга безмолвно, весь разговор был только обходным путем. Но именно этот путь искал как раз тот, кто предпочитал, чтобы никто не знал, что он на самом деле думал. Слова были для него средством скрыть правду. Для телепата, напротив, любые намерения были совершенно ясны. Со временем люди все больше и больше желали избавиться от него, и вскоре любое разгадывание друг друга стало считаться совершенно неприличным, а приличным считалось умение сохранять лицо в любой ситуации. Так ложь — теперь замазка для общества — приступала к своему триумфальному шествию.
Раньше собственный голос требовался только для пения, смеха или плача, для звучания души. Теперь он стал самым изысканным средством обмана, ведь слова существуют — как намного позже заметил Талейран — только для этого, чтобы скрывать мысли. Но еще много раньше, тем не менее, было уже и новое изобретение: письмо, письмо в его первоначальной форме: понятие, знак. Если бы этого не было, то китайцы, самый большой народ сегодня на земле, давно растворились бы во множестве других народов. Тот, кто знает их знаки, тот может считывать их на любом знакомом ему языке, подобно нашим сегодняшним дорожным знакам. Он для этого не должен знать китайский язык. И именно их письмо, а не какой-то язык, стало для китайцев сущностью их государственного единства, основательное знание его — доказательством самой высокой образованности, первой ступенью любого художественного искусства. Письмо стало поэзией для глаз. Той же кистью, которой художник рисует свои картины тушью на шелке, поэт рисует рядом с ним свое стихотворение, мыслитель увековечивает свои познания. Поэтому на Дальнем Востоке такое неповторимое значение имеют написание и почерк.